![]()
Было принято очередное «Постановление» и население сразу резко разделилось на семитов, т.е. запасшихся до закрытия, и антисемитов, которые не запаслись и теперь ругают за это евреев. Утром же сигнал к продаже стал давать волк с часов на фасаде Театра Кукол и 11 утра мгновенно стали Часом Волка.
И ещё байки
(из серии «Рассказы по жизни»)
Сергей Эйгенсон
Продолжение. Начало
 Байки из институтской курилки
Байки из институтской курилки
(Окончание. Начало)
Можно так заключить, что особо прилежным посетителем лекций Д. в своем студенчестве не был. Во всяком случае, по физхимии. Но готовился к этому экзамену старательно. Как ему самому показалось, был к сдаче готов. Но мнение экзаменатора отличалось от Юриного до такой степени, что он, вместо того, чтобы просто вернуть, как и всегда делается, зачетку без записи вместе с устным сообщением о предстоящей переэкзаменовке, жирно вписал в нее «неуд» и так же жирно (до шариковых ручек пока далеко) расписался.
Загрустил наш персонаж и с горя пошел пить пиво. Я тогда не совсем понял, о какой конкретно точке он говорил, я в ту пору начала пятидесятых ни в Москве, ни в «забегаловках» еще не бывал, но смысл в том, что где-то через Пушечную от строящегося шикарного магазина «Детский Мир». От старого здания Университета это совсем недалеко. Зашел в подвальчик, сложил стопку учебников на столик, взял у буфетчицы «сто грамм с прицепом», то есть стопку водки и кружку жигулевского, бутерброд с кетой — начал отмечать свой конфуз.
За соседним столиком какой-то потертый тип тоже «ерша» употребляет. Заметно, что не первую дозу. И очень внимательно рассматривает юрины книжки, просто названия читает, повернувши голову боком. Потом спрашивает:
— Зачем Вам всё это говно?
— Это не говно, а учебники по физической химии! — обиделся Юра.
— Я и говорю — говно учебники. Потому что писали мудаки. Ничего там хорошего не вычитаешь — нету.
— Вот Вам легко говорить, а я сегодня по ним экзамен сдавал.
— И как?
— Не сдал.
— Ну, а я Вам что говорю?
Наш герой, конечно, понял, что человек не совсем придуривается, видимо, что-то слышал. Может, даже и бывший химик. Выгнали, небось, за пьянку, вот он и поливает всех. А тот не унимается:
— А кому сдавали?
— Такому-то.
— Но это же мудак!
— Вот Вам легко…
— А какие были вопросы?
Юра доложил.
— И что Вы ответили на первый?
Юра сказал.
— Ну, в общем, правильно. С точностью до постоянного коэффициента, конечно.
— А он говорит — неверно.
— А что я Вам про него говорил? Мудак. Удивительно, как ему разрешают со студентами общаться. Ну ладно, по второму вопросу?
Юра ответил.
— Я бы объяснил через свободную энергию, но можно и так.
— А он сказал…
— Но мы же договорились. … И уши холодные. А по третьему… ну, этого и я не знаю. А он — тем более. Что же со студента спрашивать? А Вы что?
Юра изложил.
— Ну, может, и так. Интересный подход. Хотя, так ли — пока непонятно.
— А он меня выгнал и даже в зачетке записал…
— Так же не делают!
— А он написал, вот я с горя и…
— Не может быть! Покажите.
Юра полез в карман китайских штанов и достал зачетку — показать. А его собеседник тут же ее раскрыл, что-то быстро написал — и мгновенно, как в кино, исчез. Юрочкин взгляд, не успев проводить его, метнулся назад к зачетке. Там была перечеркнута запись экзаменатора с «неудом», зато появилось «отлично» и непонятная подпись.
Совершенно обалдевший Д. механически допил пиво, а после снова собрал учебники и шагами нетвердыми не от пива, а от полной непонятности событий, направился назад на Моховую, в тот самый дворик, который позже получит прозвище «психодрома». Там сидели и курили задержавшиеся после экзамена однокурсники. К ним он и понес свою загадку — кто ж тут у него накалякал в матрикуле? Отчасти надежда теплится, что случилось чудо. Но большинство шансов, конечно, за то, что, действительно, разговор был с каким-то алкашом из бывших научников и еще придется как-то выходить из положения, когда придешь на переэкзаменовку. Не показывать же эти почеркушки и это «отлично» экзаменатору. Совсем озвереет.
Сокурсники выслушали юрину историю, взглянули в зачетку и обрадовали:
— Дурак, не мучайся, а беги в деканат, чтобы записали в ведомость. Это завкафедрой. Его подпись. Видишь — «Ф»? Эх, счастье привалило балбесу!
* * *
Пожалуй, больше ничего, что можно было бы добавить в жанре «легенды о Фросте», пока не припоминается. Так на этом и закончим, наверное. Разве что вспомнить то, что рассказывали моему отцу их общие друзья после смерти А. В.
Умер он в конце лета пятьдесят второго в Баку, мы же говорили о том, что он туда часто ездил в командировки, вел шефство над тамошней нефтехимией еще с «довойны». Для всех, кто его знал, было большое горе, но и мысль, что «допился Фрост», тоже была. А потом стало известно, что умер он от энцефаломиелита, это тогда ни распознавать, ни лечить еще не научились, да и сейчас…
А когда было вскрытие, то оказалось будто бы, что его печень, сердце и легкие, если их сравнить с известной медицинской картинкой-страшилкой, выглядят как те, что слева, где идеальные внутренние органы здорового человека, а не те, что справа — печень, сердце и легкие человека пьющего. Может быть, наши физиологи и биохимики не все еще понимают пока про индивидуальные свойства организма?
5
Когда я удрал из Академии на Север а ля Смок Беллью, я, как водится, окончательно связи не рвал. И вот попросил меня мой бывший шеф, узнав, что я там на Самотлоре занимаюсь ресурсами попутного газа, сделать у них в очередной приезд в столицу на семинаре доклад: какие перспективы добычи углеводородов в Западной Сибири, и что отсюда вытекает для академической химии. Я сгоряча согласился, а потом потихоньку это дело просаботировал: по сложившемуся у меня к тому времени мнению, ничего хорошего ни для чего в стране из этих перспектив не вытекало. Изложи я это мнение — мог бы вернуться в Сибирь уже в черном зэковском бушлате за разглашение секретных сведений и антисоветскую пропаганду. Дело было в том, что треть нефтедобычи на 90-й год обещалась из-под дна Карского моря, притом, что никаких технических решений для такой добычи не было, да собственно, и посейчас нет. Для прочно сидевшей на нефтяной игле страны это гарантированно обещало крупные экономические и социальные потрясения.
Странно, что этого не видели достаточно, по-видимому, умные и информированные люди. Ну вот, был тогда такой академик, не то членкор Калечиц, известный химик, автор хорошей книжки по гидропроцессам, основатель и руководитель очень приличного академического института по нашим делам в Иркутске, а в это время как бы «главный химик Советского Союза» по своей должности зампреда Госкомитета по науке и технике. Когда я еще был в ИОХе, пришел великий человек к нам в институт делать лекцию для наших ученых по перспективам развития промышленной химии углеводородов. Начал он публику просвещать про грядущие перспективы нефтедобычи и, соответственно, нефтепереработки. «Мы, — говорит, — скоро выйдем на единичные мощности по первичной переработке нефти до ста миллионов тонн, по каталитическому крекингу до пятидесяти миллионов тонн. С такой установки будет получаться в год помимо всего прочего до ста тысяч тонн…», и называет аллен, довольно экзотический по структуре углеводород, который никакого особого промышленного применения и посейчас не нашел. — «Вот какое полезное использование академическая наука могла бы для него предложить?»
Ученые люди сидят, мнутся, ясно им целиком и полностью, что они далеко отстали от потребностей промышленности, и пора с новыми силами взяться за что-нибудь такое хорошее. Для чего, собственно, и собирались. Так я-то не глубокий ученый, я инженер как раз по этим самым делам, а сюда, в АН, так… пописать зашел. У меня текут мысли совсем в другую сторону. Вспомнил я художественный образ из мемуаров кораблестроителя Алексея Крылова насчет того, как вместо армию обучать, откормили великана ростом с гору, которого никакие пушки не берут, а он перед решающим боем обожрался и его понос прошиб.
Поднял руку с вопросом: «Товарищ, — говорю, — начальник, не будет ли Вашей милости разъяснить, это что, всерьез такие установки строить собрались?» — «Да, — говорит, — к двенадцатой пятилетке намечено, чтоб работало» — (т.е., лет через десять от разговора). — «А зачем?»
Ну, он снизошел к академической оторванности от жизни и разъяснил, что с целью технического прогресса, роста производительности труда и снижения себестоимости: «Представляете, — говорит, — благодаря автоматизации и телемеханике такой гигантской установкой будут всего пять-шесть человек управлять!»
В принципе все это полная чепуха, никакого отношения к реальной экономике производства не имеет, потому что в стоимости нефтепродуктов зарплата нефтепереработчиков — исчезающе малая доля, но я спорить с академиком об этом не стал, только говорю:
— Ну вот, будет такая установка работать, и будет с нее одной идти два миллиона тонн дизтоплива в месяц. А тут в посевную кампанию она из строя вышла. Например, эти шесть человек в столовой тухлых котлет наелись, схватила их дизентерия, и пришлось в аварийном порядке супергигант останавливать — значит, на полстраны трактора без горючего остановились.
Показал, в общем, свою отсталость и неверие в прогресс. Навроде того, как в фильме Нормана Уисдома про почтальона. Актер этот памятен советскому зрителю моего поколения больше как Мистер Питкин. А есть у него и очень поучительный фильм из почтовой жизни. Герой, сельский почтальон, совершил какой-то трудовой подвиг. Ну, допустим, рискуя жизнью, через снежные заносы, торнадо и антициклон доставил на ферму старушке-бабушке посылку — пирожки и горшочек масла. В награду его переводят работать на Лондонский главпочтамт. Там он оказывается участником эксперимента по применению электронно-счетной машины типа компьютер для сортировки писем.
Две горки конвертов — одна перед ним, другая перед хайлом ЭВМ. Начали работать — конверты летят голубями в ячейки для местной, британской и иностранной корреспонденции. Оба соревнователя вполне справляются. Тут дернуло главного кибернетика прибавить машине скорости. Наддал и почтальон. Потом еще. И еще. До того момента, когда человек еще вполне свеженький и готов к дальнейшему повышению темпов сортировки, а от его соперницы пошел дым. Спеклась.
После этого неприятного эпизода огорченный главный почтовый босс выстраивает своих подчиненных в линейку с маленьким Уисдомом на левом фланге и спрашивает их: «В чем главная задача Лондонского Почтамта?» — Те заученным хором: «Повышение индустриализации и производительности труда путем автоматизации, кибернетизации и телемеханизации!» — И только один Норман растерянно говорит: «А я думал — доставлять почту». Так и я. Не сумел соответствовать. Академик, как видно, понял, что беседует с ретроградом и предельщиком, свернул тему и перешел к дальнейшим перспективам.
А я для себя окончательно понял, что в АН только занимаю чужое место и маюсь дурью, надо идти туда, где есть применение лично мне как инженеру. Через два месяца я уехал в Западную Сибирь, где и обнаружил, что весь развитый социализм стоит на перспективу на крайне зыбком основании морской нефтедобычи из-под трехметрового дрейфующего льда. Чем дело кончилось, все, в общем-то, в курсе. Ну, а стомиллионных нефтеперегонных установок, слава Богу, никто в мире не строил и не строит.
* * *
Был у нас в институте однажды скандал по причине развития в СССР ранее не существовавшей социологической науки. Проводила какая-то сука анонимное анкетирование под крышей Октябрьского райкома. Им кандидатские сочинять, а в нашей конторе неприятности — на два вопроса плохая статистика ответов. Большинством голосов наши ученые ответили «да» на вопросы: «Может ли мужчина грубо обращаться с женщиной?» и «Может ли член партии посещать церковь?»
Пришел какой-то деятель из райкома, собрали трудящихся от академика до лаборанта, начал он нас всех лечить. А надо Вам сказать, что в 30-х годах почти всем академическим институтам навесили по проблемной лаборатории, чтоб заниматься прямой пользой для народного хозяйства. В ИОХе им. Зелинского это было подразделение по лесохимии, или, как его любовно называли ученые — лаборатория проблем стоеросовой химии. Ну, и заведующий этой лаборатории традиционно был секретарем парторганизации института. В наше время это был к.х.н. Ёлкин Николай Васильевич, что, конечно, всех радовало еще больше.
Начали они с райкомовцем в два голоса на эту тему читать проповедь про неправильные ответы и низкий уровень сознательности. А в ИОХе был среди прочего совершенно беспартийный доктор наук Смит Вильям Артурович, причем при таких фамилии и имени он еще был по национальности венгр, что, согласитесь, уж вообще ни в какие ворота не лезло. Он-то это дело и прекратил, задав встречные вопросы.
— Вот Вы, — говорит, — товарищ сверху, никогда-никогда женщину не ударите?
— Никогда!
— А если это Фанни Каплан бежит, сделав свое черное дело?
— Но это же совсем другое!
— А в анкете это как-то оговорено?
— Но… а… мэ… . Н-нет.
— Какие претензии?
— А Вы, товарищ Ёлкин, на конференцию в Париж ездили?
Тот сознался.
— В Соборе Парижской Бога Матери были? Между прочим — действующая церковь!
— Но это же памятник архитектуры.
— В вопросах это как-то учитывается?..
Тем и спаслись, спасибо мистеру Смиту за солдатскую смекалку.
Кстати, о парижских командировках наших ученых. Одна из них благодаря Сергею Никитину и Дмитрию Сухареву стала широко известна в совершенно далеких от химии кругах по песенке «Саша Дулов, прославленный бард был в Париже в порядке обмена…» Хотя, помнится, что Дулов на Ученом Совете докладывал, что был совсем не там, а в Орлеане либо Лионе. Точнее не припомню, но точно, что не Париж.
А вот люди из дружественного Института Химической Физики были, по рассказам, совершенно потрясены, когда, оказавшись проездом в этом самом Париже после конгресса в Барселоне, увидели, что весь город заклеен плакатами, приглашающими на новый кинофильм «Эммануэль». Они никак не предполагали, что их академик так широко известен и о нем уже снимают во Франции киноэпопеи. Потратились даже некоторые из своей скудной свободно-конвертируемой валюты, чтоб посмотреть — что же там такое показывают про Николая Марковича?..
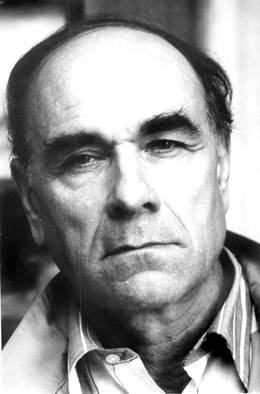 Вспомнили Дулова, давайте уж продолжим. Приезжал как-то Александр Андреевич с гитарой к нам на Средний Запад. Ну… не Пенкин, конечно. Не Наташа Королева. Человек тридцать всего и собралось, даже неудобно перед действительно выдающимся деятелем того, что называют бардовским движением и что было выдохом души поколения шестидесятых. Того поколения, которое нынче так модно и безопасно оплевывать. Помните — «По тропиночке узкой на северо-запад. Низко вытянет стланик мохнатые лапы…»? Может быть, правда, в этом случае не очень хорошо сработали организаторы концерта. В перерыве подошли мы с внуком к нему, засвидетельствовать почтение. Удивительно, но он меня вспомнил. Ну, или из вежливости сделал вид, что вспомнил.
Вспомнили Дулова, давайте уж продолжим. Приезжал как-то Александр Андреевич с гитарой к нам на Средний Запад. Ну… не Пенкин, конечно. Не Наташа Королева. Человек тридцать всего и собралось, даже неудобно перед действительно выдающимся деятелем того, что называют бардовским движением и что было выдохом души поколения шестидесятых. Того поколения, которое нынче так модно и безопасно оплевывать. Помните — «По тропиночке узкой на северо-запад. Низко вытянет стланик мохнатые лапы…»? Может быть, правда, в этом случае не очень хорошо сработали организаторы концерта. В перерыве подошли мы с внуком к нему, засвидетельствовать почтение. Удивительно, но он меня вспомнил. Ну, или из вежливости сделал вид, что вспомнил.
Во всяком случае, сказал:
— Вы ведь в одной комнате с Сашей Г. работали? А знаете, он ведь ушел из Академии, работать в коммерческую структуру. Но иногда он находит время, приезжает в институт, и мы с ним немного занимаемся вместе научной работой.
Честно скажу, что это сообщение надолго вывело меня из нирваны. Саша в давно позабытые годы имел вынесенное из пионерского возраста хобби — шлифовал друг о друга кружочки плоского стекла, так что получались зеркала для самодельных телескопов. Нынче, получается, на место такого же хобби стало то, что тогда было для него основной работой — исследование каталитических реакций.
Что можно из этого вывести для отечественной академической науки — боюсь и думать. А похоже, что она опять возвращается на тот уровень любительства, на котором была при Елисавете Петровне, когда Ломоносов отстаивал себе право немножко поработать в химической лаборатории в промежутках между сочинением действительно необходимых государству для самоутверждения перед Европой хвалебных од на взятие чего-то такого. Собственно, о сокращении расходов на эту — не военную и не промышленно-активную науку — говорили ведь еще и тогда, в 70-х, когда начальников только-только впервые захлестнуло валом нефтедолларов. Изустно передавались слова, приписываемые А. Н. Косыгину: «Науку сокращать — что свинью стричь. Визгу — много, шерсти — мало». Слова эти, как считали научники, отменили предлагавшееся уже тогда уполовинивание академических институтов, но особого уважения руководства к славной советской науке они не демонстрируют. Что уж говорить о теперешних временах?
* * *
В эпизоде с моим пробуждением между Семеновым и Кнунянцем промелькнул Роберт К.. Работал он в то время, по сути, научным чиновником. Но я думаю, что относиться к такой работе с пренебрежением — полная глупость. Плохо составленная или заведомо липовая бумага в насквозь огосударствленном обществе могут так много напортить, что пяти Ломоносовых не хватит на покрытие убытков. Впрочем, он там, в Президиуме, засиживаться не планировал. Были у него комната на первом этаже института и группка из пары мэнээсов, потихоньку делались их кандидатские и, соответственно, робертова докторская. Правда, одна мэнээска была в ту пору как раз в декрете и от нее в вытяжном шкафу у правой стены присутствовала покрытая изнутри толстым оранжевым налетом персональная установка для перегонки. Как узналось попозже, это был специализированный прибор для выработки самодельного джина и налет образовался за пару лет от использовавшихся компонентов — можжевеловых ягод и апельсиновой корки.
Оставался, не считая вечных прикомандированных из Еревана и Уфы, младший научный сотрудник Борис Б.. Я и бывал в этой комнате именно потому, что мы с ним довольно быстро подружились. И сохраняли эту дружбу без особых конфликтов более сорока лет. Но он, честно говоря, требует расширенного представления, очень уж нестандартная личность. Сейчас скажу только, что по бытовавшему в институте убеждению местные ученые дамы, прошу прощения за формулировку, сразу кончали, только зайдя в его комнату, увидев высокого и несколько меланхоличного хозяина и услышав его фирменное: «Проходите, пожалуйста. Садитесь. Кофе, чай, джин, коньяк?» Правда, одна целевая аспирантка возмущенно жаловалась мне, что вот она тоже зашла, выслушала это приветствие, уселась в кресло и только начала ловить кайф в предвкушении еще и кофе — как услышала, что он то же самое говорит зашедшей со шваброй уборщице.
— Ему же все равно кому это говорить и кого поить чаем!
— А, собственно, ты на что рассчитывала? Тебе что важно — чтоб он это говорил тебе или чтобы не говорил тете Даше?
Роберт против моего присутствия на его территории никак не протестовал, хотя бы потому, что моего прямого шефа недолюбливал. Чуть позже он решил, что эти хождения должны же давать какой-то полезный эффект. Как химик я ни для кого большого интереса в этом институте представлять не мог, но он приспособил меня, точнее, я и сам это предложил, чтобы не быть в долгу за чай, сахар и уют, к матобработке неких лабораторных данных по гидрированию сильвана. Я нынче про это вещество помню только пикантную подробность, что оно «окрашивает сосновую щепку в зеленый цвет». Но, собственно, какая разница? Есть такая модель катализа по теории общего учителя моего шефа, К. и многих других научников академика Баландина — эти данные прекрасно на нее легли.
Вообще-то, ранее упоминавшийся Юра Д. мне объяснял в свое время, что значит понятие научная школа в катализе: «Это когда шеф вывел какое-то уравнение, а его ученики потом три поколения толкают эту формулу куда надо и куда не надо». — Но в данном случае все было путем. И по смыслу, и по количественному описанию все было именно баландинским. Вот этот период работы над моделькой и был периодом наших довольно частых встреч. Потом я уехал в Нижневартовск, а в очередной приезд в столицу Боря и Роберт вручили мне оттиск статьи в Журнале Прикладной Химии. На этом и забылось, но остались некоторые полубытовые воспоминания о той работе, в первую очередь, о байках, которые любил травить К.. У него вообще было довольно развитое чувство юмора с сильно отличным от моего бэкграундом. Он был тифлисец и закончил, если не ошибаюсь, ту самую русскую школу, которую до него окончил, скажем, Евгений Примаков, и где училось большинство детей тбилисской интернациональной элиты.
Я так до сих пор и не понял до конца, к слову, одну его реплику. Но похоже, что была таки подначка. Вот мы уже обсчитали по матмодели весь его эксперимент — а дело было в раннекомпьютерную эру, я, чтобы не возиться со временем на ВЦ, все сделал на ручном калькуляторе. Роб посмотрел кривые, что-то такое про себя помыслил и говорит:
— Слушай, ты же не математик, вдруг при выведении формулы или подсчете где ошибся. Давай отдадим на проверку.
— Хорошо, а кому?
— Самому что ни на есть профессионалу по этому делу. У нас в соседнем подъезде Колмогоров живет — он-то, наверное, разберется? Как ты думаешь?
Я в ужасе представляю себе, как великий математик тратит свое время на чтение моих совершенно элементарных выкладок, падаю на колени и молю такого не делать.
— Ты что, боишься, что он у тебя ошибку найдет?
Тут только я заподозрил, что он меня попросту «разводит».
Ну, а из рассказов, как мы с Борисом это называли, «кавказских легенд», больше всего запомнилась одна. Попробую восстановить, хотя весь этот тифлисский говор рассказчика, дух времени и места мне, конечно, не под силу. Как будто бы, и эта, и другие его «секретные» истории происходят как раз из той самой средней школы в столице Грузии.
Значит так. Был такой актер Михаил Геловани. Красавец, аристократ — стал он играть Сталина во всех фильмах. Больше всего известно «Падение Берлина», где он, помните, из самолета выходит к народам, но и в других почти во всех. В театре тоже. Иногда, говорят, и на больших заседаниях вождю давал отдохнуть, заменял его в президиуме. Так что у него постоянно в чемодане была генералиссимусовский мундир на случай а вдруг. А без трубки и папирос «Герцеговина Флор» он уж и жить не мог. Вжился в роль.
Вот этот Геловани однажды приехал немножко отдохнуть в Сухуми. Остановился, конечно, в люксе гостиницы «Рица». Поужинал, прямо скажем, сильно поужинал. Спать не захотелось, достал народный артист из чемодана китель, фуражку, надел их и пошел прогуляться. Южная теплая ночь, на проспекте Сталина народу еще немало. Все, конечно, в экстазе, даже если кто и догадывается, то общего энтузиазма не нарушает. А вдруг все-таки настоящий? Приветствуют, а он на приветствия отвечает. Даже не то, что много на грудь принял, а у них же у всех это было. И Щукин со Штраухом не только что картавили даже вне сцены, но и пытались ходоков принимать. Чересчур в роли вживались. Так и этот.
Тут же в кабинете у первого секретаря Абхазского обкома звонок — так, мол, и так, ХОЗЯИН идет по проспекту имени себя и отвечает на приветствия населения. Тот чуть не в обмороке — ну, не бывает так, чтобы Хозяин так вот внезапно возникал. Тем более, недавно как раз был, неделю прожил, хванчкары изволил попить и на Рицу съездил. На всякий случай звонит в Тбилиси, грузинский первый — в Москву Поскребышеву. Тот их на смех — какой Хозяин? Хозяин полчаса назад на дачу в Кунцево уехал. Так постепенно в мозгу полностью одуревшего от событий секретаря обкома высветился Народный Артист. Но тоже, знаете, от этого не намного легче. Что теперь с этим делать? Позволить ему из себя Вождя Народов изображать — голову открутят, почему позволил священное имя компрометировать? Останавливать его, задерживать? Попробуйте в присутствии трудящихся на проспекте Сталина его же самого задержать. Как бы на куски не порвали! Наконец смикитили. Подскочили к Вождю молодые люди, руки целуют, говорят: «Товарищ Сталин, товарищ Сталин, такая честь для нас! А у нас тут в подвальчике такой замечательный духанчик есть, нигде такого нету! Окажите благодеяние, зайдите мужужи и хачапури попробовать, винца выпить».
Скажем честно, таких актеров не бывает, чтобы от подобных приглашений отказаться, пусть он хоть в Господа Бога перевоплотился по Станиславскому-Немировичу-Данченко. Там ему, конечно, лучшего коньяка, а как отключился — назад в номер. А кителек для безопасности временно изъяли.
О проделанной операции Сухумский Первый докладывает Тбилисскому. Тот Лаврентию Павловичу, как московскому покровителю Кавказа и его партработников. Лаврентий при случае — Самому. Тот подумал-подумал и говорит: «Вообще-то этот… который у нас в Сухуми сидит… хороший работник, старательный. Но бэз глубокого… понимания… сущности вещей. Народ должен знать… что вожди не отделены от него «железным» занавесом, могут вот так… по-простому… бэз чуждого большевикам зазнайства встречаться с простыми людьми. Помнишь, Лаврентий, как я тогда в Берлине сошел с самолета к людям? Ну, вот…»
На следующий день в Абхазском обкоме КП Грузии уже не было старательного работника без глубокого понимания. И вообще его уже никто никогда больше не видел.
Что же до нас с Робертом, то после этой короткой работы мы встречались редко, а нынче уже и его нету. После защиты стал он профессором, а потом и завкафедрой в ВУЗе, где пять лет учился мой сын. Вроде и повод зайти, и Роб приглашал, но я его кафедры несколько избегал. Была там одна эффектная дама-доцент, с которой я, по правде говоря, не особенно хотел встречаться. Сам виноват. За много лет до этого невдолге после окончания ВУЗа меня приятель с ней знакомил, я и сказал не то. Дама-то испанка, из детей тех испанских деток, что тогда в Союз увезли, зовут ее Долорес. Ну, а при знакомстве она представилась: «Лолита». Тут я и упустил, как говорит президент Ширак, великолепный повод промолчать. «Это, — говорю, — я понял, а зовут Вас как?» — Кто же ее знал, что она Набокова читала? Не самая доступная книжка была по тем временам. Вот и…
* * *
В нашем подвале мне однажды рассказали такую леденящую душу историю — Хичкок отдыхает. Был в этой лаборатории за пару лет до моего появления сэнээс с Большой Мечтой. Мечта его была о личном нарезном оружии. Винтовку он хотел мелкокалиберную, хотя бы отечественную ТОЗовку пять и шесть десятых миллиметра. Я, его, собственно, немного знал тоже. Он ушел завотделом в ящик одиннадцать-девятнадцать и иногда появлялся в ИОХе. Такой типичный научник-турист-шестидесятник — невысокий широкоплечий очкарик с повышенной целеустремленностью во взгляде.
И вот, рассказывали старожилы, замечтал он о собственной винтовочке. Для начала стал записываться в Общество Туристов и Рыболовов. Это, если кто помнит, не так и легко в те годы. Но вступил. Купил ижевскую гладкостволку, берет ее с собой в маршруты, да и в Подмосковье на уточек и вальдшнепов иногда охотится. Однако, душа его требует нарезного ствола. А тут правила очередной раз перекроились — и для владения таким стволом нужно быть спортсменом-перворазрядником именно, что по пулевой стрельбе. Так он четыре года ходил в тир, выбил себе первый разряд, получил документ, приобрел ТОЗовку. Осуществилась мечта! Взял винтовочку с собой на Кольский. И на первом же пороге заветный ствол утоп при оверкиле.
Просидел Юрий Григорьевич на этом пороге неделю и выудил все, до последней ложки. Кроме одного — винтовки. Уверяли меня, что его заметная седина — именно после этого маршрута. Приходилось мне слышать, что гоголевская шинель, из которой, якобы, все и вышли — на самом деле не верхняя одежда, а охотничье ружье, о коем мечтал всю жизнь некий петербургский чиновник. Купил, выехал счастливый столоначальник на охоту — и утопил, не хуже старшего научного сотрудника полутора веками позднее. Вот-де, его горе и трансформировал Н. В. в свою душераздирающую историю. ХХ век пожестче, никого не нашлось, чтобы воспеть горе нашего коллеги после его оверкиля. Я первый и уж в следующем веке и даже тысячелетии…
6
Назовем нашего героя Вадиком. В таком случае, он уже давно Вадим Вадимович, не первое десятилетие доктор и профессор, заведующий лабораторией в одном из самых знаменитых НИИ Российской АН. А тогда был он аспирантом у доктора химнаук Р., и жизнь изо дня в день гоняла его по кругу, как сказал бы немецкий философ Гегель, «дурной бесконечности».
Шеф поставил ему задачу — выяснить механизм еще одной реакции на том знаменитом катализаторе, который когда-то ввел молодого научного сотрудника Р. в круг… если не знаменитых, то уж точно известных советских химиков. Еще бы чуть-чуть и — немножко не хватило до академика или хотя бы членкора. Ну, может, еще маленько подкачала анкета. Дело-то было уже после войны, набор идеальных для совученого показателей сильно сменился не в пользу Бориса Ильича. Но для Вадика вообще эти проблемы пока за горизонтом. Ему бы защитить желанный дисер и попасть хоть в кандидаты.
А это под большим сомнением. Результаты одного опыта противоречат другому, на самописце вылезают пики таких промежуточных веществ, какие вообще не могут существовать в этих условиях, изменения концентраций идут против термодинамики. Вообще ничего понять нельзя, а уж показывать шефу, который в начале работы так убедительно рассказал о будущих успехах — и вовсе невозможно. А он, как назло, все время спрашивает: «Ну, что — показывайте Ваши хроматограммы». А когда покажешь, мрачнеет и вежливым голосом констатирует: «Боюсь, Вадим, что нам с Вами придется расстаться». Да век бы тебя не видеть! Но ведь тогда…
Каждый день после встречи с научным руководителем опечаленный предстоящей разлукой Вадик спускался в курилку и горько жаловался публике на судьбу. «Да ладно, — говорят ему, — не … — ну, скажем эвфемизмом — не плачь! Давай, какие ему нужны хроматограммы — нарисуем в момент нулем от самописца». Да горе-то в том, что наш герой не может и сказать, какие в точности концентрации чего должны быть, чтобы подтверждалась шефова модель. Не один ведь опыт нужен, сотни полторы при разных температурах и исходных составах. Не спросишь же руководителя: «Скажите, — мол, — какие Вам составы-то? Мне ребята обещали нарисовать нужные результаты». — А самому вывести… никак. Теория не была его сильной стороной. А эксперимент, как назло, не получался.
Потом он возвращался к себе на рабочее место, готовил смеси, какие полагалось по программе, вкалывал их в поток, получал опять ералаш. Дожидался пяти тридцати, чтоб ушел босс и чтоб перед уходом видел, как Вадим корпит над установкой. Если уходишь вовремя — можно и вообще не приходить. В институтах АН СССР принято, чтоб соискатели и аспиранты оставались до ночи. Если нет, не стоит рассчитывать, что тебе, как говорят, «разрешат защититься». Ну, чтоб зря время не пропадало, можно походить по комнатам, поплакаться на жизнь, узнать свежие анекдоты, завязать интересные знакомства с новыми сотрудницами и аспирантками. Ушел начальник — можно собираться.
Вечером либо на банкет к кому-то, кому уже повезло, или попросту вмазать с горя разбавленного в аспирантском общежитии, закадрить чуву, дождаться, пока закосеет, и привести в исполнение. При всех своих научных грустях Вадик был большим жизнелюбом с неисчерпаемым запасом напористости. Его знаменитая формулировка: «У меня давно прибор в сборе, а она все глазками кокетничает да отнекивается. Ну, у меня такое не проходит!» — прославила его много больше, чем все его последующие научные достижения. Утром пробуждение, первые грустные мысли о предстоящей сегодня новой встрече с научным руководителем… и далее по кругу.
Много раз приходила к бедному парню шальная идея плюнуть на все да и пойти в заводскую лабораторию — сразу же будут те же сто восемьдесят, что и у мэнээса после остепенения, и нет этого кошмара новых бессмысленных встреч с любимым шефом. Но квартальный план, тупые начальнички, не сравнишь с вежливым Борисом Ильичом, каждый день тащиться на автобусе в Капотню — и Академия Наук, Октябрьский проспект, цивилизованные люди вокруг. И дурная идея немедленно уходила восвояси.
Все-таки, не зря нас учат не терять оптимизма. Однажды Вадику повезло и бесконечная цепь страданий, в точности как учит нас классическая литература, была разорвана. Разумеется, любовью. День начался, как обычно, унылым появлением в институте, стандартным «Боюсь, что нам с Вами придется расстаться» и очередной чепухой на ленте хроматографа. И так до вечера. Вечером один целевик из хлопковой республики отмечал банкетом удачный итог трех проведенных в Москве лет и десяти тысяч за диссертацию по «Некоторым вопросам передовой советской науки». Теперь дома он будет свысока посматривать на питомцев местных ученых советов и при случае напоминать, что он-то защищался в Москве.
Как всегда, нашлась вполне симпатичная девица с глазками, поблескивающими от некоторой гормональной перегрузки как следствия чрезмерных ученых занятий. Наш герой — парень видный, да и у него глаза не без того же блеска, в данном случае, скорей, по причине природного могучего здоровья. А на счастье ее соседка по комнате как раз нынче навещает родителей за Уралом. В общем, получилось никак не хуже, чем обычно.
Наутро он проснулся вполне довольным жизнью. Но через пару минут поле пробуждения вспомнил о предстоящем на сегодня новом круге Сансары — и скупая мужская слеза… ну, нет, заплакать Вадим не заплакал. Но загрустил очень сильно и заметно со стороны.
— Ты чё это смурной такой? — спросила тоже уже открывшая глаза подруга.
— Ах, Люся, если б ты могла понять!
— Ну, допустим, я не столько Люся, сколько Люба, но, может, и пойму. Излагай.
И наш персонаж сообщил девушке то, что мы с вами уже обсуждали, о ходе своих аспирантских дел.
— Ну, что поняла?
— Пока не очень. Какой, ты говоришь, там должен быть механизм реакции? И какая лимитирующая стадия?
— Так ты…
— А ты что думал — я умею только …? (Надо отметить, что в те давние времена еще не было в употреблении эвфемистического глагола «трахаться», введенного в сленг только в 80-х при переводе американских кинобоевиков и девушка использовала более древний, но в печати в ту пору малоупотребительный глагол). У меня аспирантура на кафедре кинетики у NN. Как раз тема по реакциям в импульсе. Ну чего ты уставился, как на целку? Давай рисуй свой механизм и беги за бутылкой к завтраку.
Мы с вами легко можем вывести из этой детали, что разговор происходит до 1970 года и национальный напиток пока продают и поздно вечером, и утром прямо с момента открытия магазинов. Чуть позже было принято очередное «Постановление об усилении борьбы» и население, как помните, сразу резко разделилось на семитов, то есть, запасшихся до закрытия, и антисемитов, которые проваландались, не запаслись и теперь ругают за это евреев. Утром же сигнал к продаже казенной и приравненных к ней жидкостей стал давать волк с часов на фасаде Театра Кукол и одиннадцать утра мгновенно стали Часом Волка.
Когда Вадик вернулся в комнату своей подруги с бутылкой, парой пачек «Джебела» и кружком «Краковской», та сидела за столом в одних очках и заполняла уже третий листок интегралами. Под конец, говорят, оказалась таких листочков почти дюжина, но говорят также, что процесс письма несколько раз прерывался по причинам, прямого отношения к химии углеводородов не имеющим. Разве что к биохимии.
Правду говорят, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Конечно, пришлось придумывать отмазку перед шефом за пропущенный день. Но зато со следующего утра жизнь переменилась. Любовь и ее чудотворные выкладки вдохновили нашего аспиранта на настоящий трудовой подвиг. Каждый день показывал он теперь Борису Ильичу хроматограммы, услаждавшие шефское сердце логичностью и последовательностью результатов, из которых однозначно следовала справедливость исходной гипотезы о хемосорбции этил… впрочем, я думаю, вот эти мудрствования уже совсем никому за пределами АН и конкретного этого ее института неинтересны. Важно то, что дело пошло, о «придется расстаться» разговор уже не заходил и даже, что редко бывает, Вадим уложился в отпущенные официально три года и защитился даже еще до окончания срока.
Спустя несколько лет однажды вечером мы сидели с моим приятелем, некоторым образом, моим Овидием в этих стенах, в комнате у Вадима Вадимовича и пили его фирменный напиток — подкрашенный чаем казенный спирт, который он почему-то именовал коньяком. С него причиталось — мы недавно помогли ему добыть справку о внедрении его научных достижений на одном из башкирских нефтеперерабатывающих заводов. Расчувствовавшийся от коньяка хозяин вспомнил свои аспирантские годы, Бориса Ильича, импульсный реактор и ностальгически глядя не столько на нас, сколько на то давнее и славное время, сказал среди прочего: «Вот не поверишь, а я свою кандидатскую сделал ровно за сто дней, а до того не знал, за какую веревку и потянуть».
Я восхитился, а Овидий промолчал и только уж когда мы шли с ним по вечерней Москве к метро «Ленинский проспект», сообщил мне все, что изложено выше, присовокупив, что на самом-то деле Вадик получил весь свой экспериментальный материал всего за три недели, а сто дней он носил хроматограммы научному руководителю, растягивая процесс для большего правдоподобия.
А что же Любовь? Ну, как будто бы, тоже защитилась в срок и уехала к себе в Свердловск либо Куйбышев. Во всяком случае, после того, как Вадик по пьянке намекнул дружкам на эту историю, многие из них умоляли его о телефончике мудрой девицы. Но он устоял и так ни с кем не поделился.


Проводила какая-то сука анонимное анкетирование под крышей Октябрьского райкома.
===
Это был я. В составе. Вызвали в райком на Донской прямо к первой. Я не оговорился. Первым секретарём райкома была дама во всех отношениях. Она и возжелала результатов.
—
десяти тысяч за диссертацию по «Некоторым вопросам передовой советской науки».
===
Фигня. Даже диссер по хирургии (без покойников) стоил максимально 5-6 тысяч. И только, если в результате эксперимента, были покойники, то, конечно, приходилось доплачивать родственникам и ментам. Поэтому обычно ограничивались мышками, котами, белками-стрелками. А у химиков какие покойники? Перепутали метил с этилом. Но это у жэковских слесарей.
——
Так Геловани или Чиаурели? Who is Who?
Спасибо. Опечатку исправили.