![]()
Это — подборка избранных произведений, опубликованных в первых 50-ти номерах журнала «Семь искусств».
«Семь искусств» 2009–2014 — 50 номеров
Дайджест. Часть первая
Составлять этот дайджест было сущим мучением. Почему? С главным редактором был у нас такой уговор: дайджест по случаю выхода в свет юбилейного 50-го номера «Семи искусств» будет содержать по одной публикации на номер. Как выбрать из номера только одну публикацию, когда в нём (в каждом) по три десятка замечательных работ, из которых три-четыре, а то и больше — выдающихся. Но… выбор сделан и вот он (а составлять альтернативные подборки предлагаем читателям).
Итак, дайджест содержит 50 пунктов, сооответствующих номерам журнала «Семь искусств» с 1-го по 50-й. В заголовке каждого пункта — ссылка на оглавление соответствующего номера, имя и фамилия автора (со ссылкой на авторскую страницу), название публикации (с соответствующей ссылкой). Далее идет выдержка из текста и фотография автора или иллюстрация из статьи. Большие публикации, печатавшиеся «с продолжением» в нескольких номерах, представлены в дайджесте одним пунктом, со ссылками на начало, возможные продолжения и окончание.
Мы постарались представить в дайджесте все рубрики журнала и как можно больше авторов. За редкими исключениями один автор включался в подборку один раз. И было очень трудно выбрать одно авторское призведение из напечатанных в «Семи искусствах».
Выпускающий редактор Мастерской
#1, декабрь 2009 — Евгений Беркович: Журнал «Семь искусств», или Что же достойно свободнорожденного человека?
 Хорошо помню день, когда возникла идея издавать новый журнал, тематика которого коротко выражена тремя словами: наука, культура, словесность: — 28 сентября уходящего года, исход Йом-Кипура, сразу после трубных звуков шофара.
Хорошо помню день, когда возникла идея издавать новый журнал, тематика которого коротко выражена тремя словами: наука, культура, словесность: — 28 сентября уходящего года, исход Йом-Кипура, сразу после трубных звуков шофара.
Название журнала родилось почти сразу: «Семь искусств». Если быть строгим, следовало бы остановиться на более длинном — «Семь свободных искусств». Именно так называли в древности и средние века тот набор знаний, который нужно было изучить человеку, чтобы считаться образованным, как сейчас говорят, «культурным», или даже «интеллигентным». Семь свободных искусств состояли из двух блоков: тривиума и квадривиума, о чем мне пришлось вспомнить, когда я искал объяснение слова «тривиальный» — в известных толковых и фразеологических словарях это понятие толкуется неверно (см. об этом мою статью «Похвала точности, или О нетривиальности тривиального»).
Конечно, я не собирался ограничиваться тривиумом и квадривиумом в новом журнале, но сама идея рассказывать то, что интересно интеллигентному человеку, казалась привлекательной. Лучше всего идею «свободных искусств» выразил в своей «Политике» непревзойденный Аристотель: «Семь свободных искусств — основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно». По-моему, лучше не скажешь! Эту цитату мы выбрали для эпиграфа нового журнала.
#2, январь 2010 — Марк Перельман: Эдвард Теллер — злодей и изгой американского научного сообщества

В 1970 г. в Киеве проходила большая международная конференция по физике элементарных частиц. Поскольку на Южном Кавказе была холера, пробираться через карантин было нелегко (я вброд перебрался через речку Псоу, пограничную между Абхазией и Россией, в километре от карантинного поста). В Киеве оргкомитет поместил нас, нелегалов, за городом, в Феофании, в новой гостинице Института физики. Туда же, подальше от журналистов, был поселен А.Д. Сахаров и почему-то несколько иностранцев.
Моими соседями оказалась супружеская американская пара, Джекоб и Рут, физик и социолог, а когда мы выяснили, что все наши деды родом из Одессы, только их — махнули в Штаты, а мои — в Тифлис, то отношения установились почти родственные. Еще более они укрепились, когда я объяснил, что известный физик Эндрю Захаров и не менее известный диссидент Андрей Сахаров — одно и то же лицо и представил их Андрею Дмитриевичу.
Поскольку это были первые американцы, с которыми довелось разговаривать, а иностранцев вокруг было столько, что «искусствоведов» в штатском на всех явно не хватало, то говорить можно было относительно свободно. Из русского языка предков у них сохранилась лишь одна волшебная фраза: «Водка мит селедка», которой они, как то вместе и со мной, успешно пользовались. Вот так все мирно текло (они понимали, что о политике говорить не стоит), пока я безо всякой задней мысли не сказал, как интересно было бы сравнить ход мыслей Сахарова и Теллера по термоядерным реакциям…
Рут как будто взорвали изнутри: она прошипела, а затем почти прокричала кучу слов, явно нецензурных, среди которых я уловил лишь несколько выражений на идише и громогласное «БОЙКОТ». Чуть успокоившись и видя, что я не все понял, она сказала, что поминать Теллера в приличном обществе — это дурной тон, а она, мол, как то продефилировала мимо него, демонстративно отвернувшись (у меня не хватило смелости спросить, заметил ли это он). Джекоб был менее эмоционален, хотя и согласен с женой — он не раз сталкивался с Теллером по работе.
Поскольку о существовании «левых» — в нашем теперешнем понимании — интеллектуалов я почти ничего не знал, то недопонимание таковым и осталось, ругань в «Правде» мы давно привыкли понимать наоборот. Но со временем я узнал многое о Теллере и о его столкновениях с так наз. «общественным мнением»…
#3, февраль 2010 — Александр Воронель: Андрей Сахаров, человек и ученый
 Когда в 1976 г. А.Д. Сахарову присудили Нобелевскую премию Мира, Национальная Академия Наук Израиля пригласила меня выступить перед ней с речью, как человека ближе всех знакомого с лауреатом.
Когда в 1976 г. А.Д. Сахарову присудили Нобелевскую премию Мира, Национальная Академия Наук Израиля пригласила меня выступить перед ней с речью, как человека ближе всех знакомого с лауреатом.
Мне повезло в жизни познакомиться и даже вступить в дружеские отношения почти одновременно (в середине 70-х) с обоими великими учеными, чьи имена связываются с созданием водородной бомбы по обе стороны Железного занавеса: Андреем Дмитриевичем Сахаровым и Эдвардом Теллером. Они были совершенно разные люди, ни в чем не похожие. Молчаливый, медлительный Сахаров и громогласный, быстрый в движениях Теллер казались антиподами. И если Сахаров производил впечатление святого немного не от мира сего, то Теллер, напротив, казался целиком погруженным в этот грешный мир, который он видел насквозь.
Прекраснодушные западные либералы, которые купились на приманку «борьбы за мир» и боготворили Сахарова, проклинали «поджигателя войны» Теллера. Они были в шоке, когда при ближайшем рассмотрении оказалось, что Сахаров утверждает то же, что и Теллер — деспотическим режимам, и, в частности СССР, ни в чем нельзя доверять, какую бы они «революционную» рекламу себе ни делали. «Борцы за мир» не успели от него отступиться, т. к. Сахарова сослали в Горький, и обаяние мученика, к счастью, навсегда оставило его по эту сторону добра и зла в публичном сознании Запада.
Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А. Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально произошло, только как человек, то есть если бы он не был ученым? Я думаю, что — нет. И этот мой ответ характеризует не столько А. Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем личном впечатлении о Сахарове как человеке…
#4, март 2010 — Евгений Майбурд: Если… О книге воспоминаний В. Туманова (2, 3, 4)
 Вот книга: Вадим Туманов. «Все потерять — и вновь начать с мечты…». Воспоминания. А что такое — эта моя работа? К какому жанру ее отнести?.. Ни отзыв, ни эссе, ни статья, ни очерк… Честно, не знаю. Мысли по поводу… Просто не могу не поделиться. При первом чтении проглотил взахлеб. Теперь с карандашом читаю, перечитываю, возвращаюсь к прочитанному, задумываюсь… Задаюсь вопросами. Пытаюсь осмыслить свои впечатления, личность автора, время, в котором довелось нам жить, себя самого…
Вот книга: Вадим Туманов. «Все потерять — и вновь начать с мечты…». Воспоминания. А что такое — эта моя работа? К какому жанру ее отнести?.. Ни отзыв, ни эссе, ни статья, ни очерк… Честно, не знаю. Мысли по поводу… Просто не могу не поделиться. При первом чтении проглотил взахлеб. Теперь с карандашом читаю, перечитываю, возвращаюсь к прочитанному, задумываюсь… Задаюсь вопросами. Пытаюсь осмыслить свои впечатления, личность автора, время, в котором довелось нам жить, себя самого…
«Времена не выбирают — в них живут и умирают». Но большой (больной) вопрос: как прожить. Есть ли у нас выбор? Очень уж часто внешние силы определяют условия и ограничения нашего поведения. «У меня не было выбора…», «А что я мог сделать?..», «А как я, по-твоему, должен был поступить?..» Знакомые фразы, не так ли? Кто из нас не сказал чего-то подобного хотя бы раз в жизни, выбирая между добром и злом?
Однако, в пределах любых ограничений всегда остается пространство для собственного выбора. И чем жестче ограничения свободы выбора, тем тяжелее выбирать. Но выбор есть всегда, покуда человек внутренне свободен, ибо, что бы там ни было, всегда остается выбор — между жизнью и смертью. По крайности, пока тебя не связали по рукам и ногам и/или пока ты в сознании.
В этом — первый урок книги Туманова.
В целом, книга — великий документ эпохи. И еще: в ней отразилась выдающаяся личность. И еще: она затрагивает фундаментальные проблемы человеческого бытия, это экзистенциальная книга…
 …Мы, как условились, кинулись в разные стороны, но через десять-двенадцать прыжков я запутался в витках проводов на земле. Падаю, меня настигает конвой.
…Мы, как условились, кинулись в разные стороны, но через десять-двенадцать прыжков я запутался в витках проводов на земле. Падаю, меня настигает конвой.
Не видел, как и чем меня били, пришел в себя на вторые сутки в изоляторе.
Я сильно, очень сильно избит, но, очнувшись, с радостным удивлением обнаруживаю, что все зубы целы! Это невероятно. Зубы оказываются прочнее всех частей тела. Бывало, меня били прикладом по голове, иногда так, что голова, казалось, отлетала в сторону, но зубы в хрящевых окопах стояли насмерть. Уже не осталось ни волос, ни ума, а зубы — тьфу-тьфу — до сих пор целы.
Да… «тьфу-тьфу». И еще — открытие в области сравнительной прочности различных частей тела. Так сказать, безумную гипотезу испытать на себе.
Это был «побег на рывок», один из таких, что описан в песне Владимира Высоцкого. А изолятор — это не особая палата в больнице. Везде в этой книге изолятором называется карцер.
Но попробуем по порядку. Вырос он и жил на Дальнем Востоке. О детстве и отрочестве автора книга практически ничего не сообщает. Надо понимать, самый обыкновенный был ребенок, паренек, пионер, юноша, комсомолец (с 14 лет, это упомянуто)…
Вадим Иванович Туманов, прежде чем написать воспоминания о своей жизни, прожил несколько жизней, сильно несхожих по обстоятельствам, условиям, окружению героя, его деятельности и его достижениям. Моряк. Заключенный. Бригадир. Зачинатель артельного движения. Организатор промышленности…
#5, апрель 2010 — Джером Сэлинджер: Над пропастью во ржи. Роман Дж.Сэлинджера. Перевод Якова Лотовского (продолжение, окончание)
 Я сидел и продолжал накачиваться спиртным — все ждал, когда выйдут Тина и Жанин со своими делами, но их сегодня не было. Вышел шустрый такой чувак с перманентом на голове и стал играть на фоно, а потом новая крошка, певица Валенсия. Тоже ничего особенного, но все же лучше, чем Тина с Жаниной, эта хоть пела нормальные песни. Фоно стояло рядом со стойкой, где я сидел, и Валенсия находилась практически рядом. Я подмигивал ей, но она делала вид, что не замечает. Наверно не стоило этого делать, но я был пьяный в дым. Когда она закончила, она смоталась так быстро, что я не успел ее пригласить выпить со мной, и я подозвал метрдотеля и попросил передать Валенсии: не будет ли она любезна выпить со мной. Он сказал, что передаст мое приглашение, но наверно не передал. Вечно так: сколько их ни проси — никогда не передадут.
Я сидел и продолжал накачиваться спиртным — все ждал, когда выйдут Тина и Жанин со своими делами, но их сегодня не было. Вышел шустрый такой чувак с перманентом на голове и стал играть на фоно, а потом новая крошка, певица Валенсия. Тоже ничего особенного, но все же лучше, чем Тина с Жаниной, эта хоть пела нормальные песни. Фоно стояло рядом со стойкой, где я сидел, и Валенсия находилась практически рядом. Я подмигивал ей, но она делала вид, что не замечает. Наверно не стоило этого делать, но я был пьяный в дым. Когда она закончила, она смоталась так быстро, что я не успел ее пригласить выпить со мной, и я подозвал метрдотеля и попросил передать Валенсии: не будет ли она любезна выпить со мной. Он сказал, что передаст мое приглашение, но наверно не передал. Вечно так: сколько их ни проси — никогда не передадут.
Блин, я торчал в баре чуть ли ни до часу ночи и упился в стельку. Окосел совсем. Одно только я помнил четко — нельзя шуметь, дебоширить и тому подобное. Нельзя привлекать к себе внимания и т. д. и т. п., а то начнут выяснять, сколько мне лет. Но до чего же я, блин, окосел! Когда я совсем напился, у меня опять начался этот дурацкий бзик, будто мне в кишки всадили пулю. Я был единственный в баре с пулей в животе. Я положил руку под курткой на живот и все такое, чтоб кровь не лилась на пол. Я не хотел подавать виду, что ранен. Я старался скрыть, что ранен каким-то сукиным сыном. И тут мне жутко захотелось позвонить Джейн, узнать явилась ли она уже домой. Я заплатил по счету, вышел из бара и пошел искать телефон. Я продолжал держать руку под курткой, чтобы кровь не капала. Бог мой, до чего же я был пьян!..
#6, май 2010 — Марк Азов: Аваддон
 Он лежал среди крови и копоти на черном снегу. Рядом валялся сапог с остатками ноги. Но это была не его нога, судя по сапогу. Впрочем, ему было безразлично: он не чувствовал боли.
Он лежал среди крови и копоти на черном снегу. Рядом валялся сапог с остатками ноги. Но это была не его нога, судя по сапогу. Впрочем, ему было безразлично: он не чувствовал боли.
Облака, такие же грязные, как снег, проносились над ним на бреющем полете…
И вдруг к нему слетел гриф-стервятник. Громадный горбатый. Обошел по кругу, крылья за спину, и, склонив набок головку на красной мозолистой шее, уставился не него, как бы примеряясь, куда обрушить клюв.
В глазах этой пернатой сволочи сквозила мутная глубина безразличия, подобная полету облаков.
Откуда здесь гриф? Он видел этих нелепых птиц в предгорьях Памира, когда из него делали лейтенанта — «Ваньку взводного» в училище. А здесь даже ворон, ко всему привычных, и тех распугали артиллерией…
— С чего ты взял, что я птица?
И, правда, с чего я взял? Он только показался грифом. На самом деле, этот, с безразличными глазами, либо санитар, либо из похоронной команды: человек, как человек, в армейской телогрейке без погон. Нестроевой дядя.
— Са-а-ни-и-тар.
— Бери выше…
#7, июнь 2010 — Овсей Дриз: Стихи. В переводе Александра Лейзеровича
 Блоху однажды встретя,
Блоху однажды встретя,
спросил её мой дед —
«Чему, блоха, ты рада?»,
а та ему в ответ:
«Я в среду заболела —
простуда, кашель, жар —
и в шкуре у медведя
решила полежать.
Лежу себе спокойно,
поставила компресс…
И вижу вдруг охотника
и слышу страшный треск!
Но мне каким-то чудом
случилось уцелеть —
стрелял в меня охотник,
а был убит медведь!..»
#8, июль 2010 — Владимир Матлин: Жизнь после Джуди. Монологи и письма
 Брюс отер лицо бумажной салфеткой, тяжело вздохнул и заговорил:
Брюс отер лицо бумажной салфеткой, тяжело вздохнул и заговорил:
– Ты должна меня понять, ты всегда заботилась обо мне. Чтобы я питался правильно, чтобы лекарства принимал вовремя… и все остальное. Ты должна понять. Мне плохо, я не могу так дольше. Дело тут даже не в том, что некому позаботиться – я справляюсь сам. Но вот не с кем поделиться, некому рассказать… Да, есть Товбины, они наши хорошие друзья, сочувствуют мне, все так. Но понимаешь, у них своя жизнь, свои радости и беды. Конечно, если я приду и буду рассказывать, они выслушают и помогут, чем могут. Но понимаешь, есть много такого, что и рассказать невозможно, сидит вот здесь, в груди, давит, рвется наружу, а станешь говорить – ерунда получается, непонятно даже о чем. Только ты могла это понять. Вот представь себе, вовсе не еда и там всякая стирка-уборка, а как раз это: не с кем поделиться… И вообще – пусто как-то. Свет зажжешь во всех комнатах, телевизор включишь, а все равно – пусто.
Он снова вздохнул и погладил согретую осенним солнцем полированную поверхность серого гранита, теплую, гладкую, мягко закругленную, как женское плечо. От этой ассоциации он вздрогнул и посмотрел по сторонам. Солнце садилось, и ровные шеренги могильных памятников отбрасывали ряды длинных теней. Кладбище было пустынно и молчаливо, лишь издали доносилось глухое урчание травокосилки.
Брюс положил обе руки на закругленные края камня.
– Никто, никто тебя не заменит, Джуди. Никто и никогда, это определенно. Но мне так одиноко, ты должна понять. – Он вытащил из кармана бумажную салфетку и вытер глаза. – Рубен… нет, я не жалуюсь на него, он внимательный сын, но… У него своя семья – жена, дети. Он звонит, спрашивает «как дела, папа». «Ничего, – я отвечаю, – ничего». Разве объяснишь?.. «Ничего»… Он рассказывает про своих детей… про наших, Джуди, внуков. Я слушаю. Потом он прощается, я вешаю трубку и снова остаюсь один. Очень пусто…
#9, август 2010 — Марк Азов: Сочинитель снов
 И я сочинил ему сон.
И я сочинил ему сон.
Спящий старик ощутил забытую легкость в теле и увидел мужика лет сорока пяти с каштановой бородой, слегка подсвеченной серебристыми волосками. Не сразу догадался, что это он сам и есть. А, когда влез в свою прежнюю шкуру, обрадовался, легко взобрался на стремянку, которая почему-то стояла в передней, и полез на антресоли, где лежали тюки с байдаркой, отданной 30 лет тому назад какому-то салаге, разбившему ее на порогах. Во сне байдарка оказалась целехонькой, упакованной, пересыпанной тальком. И палатка на месте, и спальный мешок, и надувной матрас, и «загорелый» котелок, и даже брезентовые рукавицы «кострового» Все это снаряжение он погрузил на самодельную тележку с двумя колесами от детского велосипеда и отворил двери… Волна влажной свежести ударила ему в лицо, с запахом промытой зелени, всплесками рыб и свистом крыльев стрижей над поверхностью светлеющих вод. Это Река вышла навстречу Лодке. Ее темно-зеленые кудри летели вместо с течением туда, где она намывала елочкой песок и резвились литые рыбы с алым оперением.
Он сбросил штормовку, расшнуровал тюки. Из дерева, пластика и брезента и дюраля в его руках стала формироваться лодка. И вот она уже родилась: длинная, синяя, туго натянутая на деревянные ребра-шпангоуты и гибкие стрингера. «RZ» — эрзетка, сделанная в GDR, где вероятно еще не забыли об изяществе обводов спортивных речных судов, несмотря на социализм. Высокий и широкий носовой отсек, и низкий зауженный — кормовой соединялись красными полосами фальшбортов в единое — неразделимое, вытекающее одно из другого. Стоит взмахнуть крылатым веслом из отполированного дерева, крытого лаком, как скрипка Страдивари, и синяя птица помчится стрелой, почти не прогибая речное зеркало…
Но он задержался, во сне собирая лодку, до утра, которое не должно было наступить для него. В комнату вошла женщина из социальной службы, приставленная к нему, и увидела лежащего на диване старика с отвисшей челюстью и остекленевшими глазами. Привычная ко всему, она позвонила в скорую и в милицию.
Пока они ехали по городу, он столкнул лодку на воду. Река мягко спружинила, лодка качнулась, днище ощутило ласковый холодок.
— Поцелуйтесь, девочки, — сказал он Реке и Лодке.
Разул кроссовки, рассчитано точно поставил босую ногу так, чтобы не нарушить равновесия, сел и уперся ногами в рулевую планку. Взял весло с развернутыми наподобие пропеллера лопастями — оно лежало вдоль борта…
Когда труп, накрытый с головой, выносили ногами вперед из опустевшей квартиры, он был уже далеко отсюда.
…Пришел ангел-регистратор и душу, над которой я только что трудился, переложил на стол смертей. В тайники никому не нужной души он, естественно не стал заглядывать. И не учел, конечно, что двух вещей, превращенных мною в сон, там не хватает.
Вот он и плывет по моей бесконечной реке в своей длинной лодке…
#10, сентябрь 2010 — Хаим Соколин: И сотворил Бог нефть… Роман в двух частях с возможностью продолжения, если на то будет воля Божья (2, 3, 4)
 До начала бурения оставалась неделя, и в это время возникли некие непредвиденные обстоятельства. Алекс срочно прилетел в Израиль, чтобы обсудить их. На следующий день они встретились втроем — Алекс, Андрей и тот, кого они называли между собой «наш Сорос». Его настоящее имя было Шмуэль. Это был человек очень известный в стране и очень богатый. Алекс и Андрей познакомились с ним год назад. Они пришли к нему практически с улицы, без рекомендаций и без помощи посредников. Просто позвонили, и секретарь назначила им встречу. Их единственной рекомендацией были прошлые профессиональные достижения и результаты проверки метода на уже известных нефтяных месторождениях. Имея печальный опыт предыдущих подобных встреч, они ожидали столкнуться с недоверием и плохо скрытым подозрением, что два проходимца с докторскими дипломами пытаются раздобыть деньги на какую-то псевдонаучную аферу. Но на этот раз все было иначе. Шмуэль сразу же расположил их своей простотой, открытостью и стремлением вникнуть в самую суть технических вопросов. Он встретил их широкой улыбкой, которая, впрочем, не скрывала хитрого прищура глаз.
До начала бурения оставалась неделя, и в это время возникли некие непредвиденные обстоятельства. Алекс срочно прилетел в Израиль, чтобы обсудить их. На следующий день они встретились втроем — Алекс, Андрей и тот, кого они называли между собой «наш Сорос». Его настоящее имя было Шмуэль. Это был человек очень известный в стране и очень богатый. Алекс и Андрей познакомились с ним год назад. Они пришли к нему практически с улицы, без рекомендаций и без помощи посредников. Просто позвонили, и секретарь назначила им встречу. Их единственной рекомендацией были прошлые профессиональные достижения и результаты проверки метода на уже известных нефтяных месторождениях. Имея печальный опыт предыдущих подобных встреч, они ожидали столкнуться с недоверием и плохо скрытым подозрением, что два проходимца с докторскими дипломами пытаются раздобыть деньги на какую-то псевдонаучную аферу. Но на этот раз все было иначе. Шмуэль сразу же расположил их своей простотой, открытостью и стремлением вникнуть в самую суть технических вопросов. Он встретил их широкой улыбкой, которая, впрочем, не скрывала хитрого прищура глаз.
— Молодые люди хотят поговорить о деньгах. Я не ошибаюсь?
— Не ошибаетесь,— в тон ему ответил Алекс.
— Прекрасно. Молодые люди хотят предложить деньги мне или просить у меня? — продолжал Шмуэль в нарочитой манере старого мудрого еврея, который знает все о деньгах и о людях.
— Предложить вам.
— Так я и знал, — удовлетворенно произнес Шмуэль,— молодые люди хотят предложить мне сто тысяч долларов в обмен на мои двести. Или я что-то напутал в арифметике?..
#11, октябрь 2010 — Елена Матусевич: Чемодан. Рассказы
 Петр Кириллович покончил с собой. Все ему надоело. Он был неизлечимо болен, ему было хорошо за семьдесят, и врачи смотрели на него с тоской. Тело обнаружила уборщица. Похоронили его на средства штата Колорадо, наследовать было нечего. После него остался старый, страшно тяжелый, диковинного вида чемодан. В чемодане обнаружились альбомы фотографий и коллекция минералов. Покойный был геологом. Также там был обнаружен адрес его дочери, живущей в России. Соседи не решились выбросить чемодан, и теперь он несколько месяцев пылился у них в гараже.
Петр Кириллович покончил с собой. Все ему надоело. Он был неизлечимо болен, ему было хорошо за семьдесят, и врачи смотрели на него с тоской. Тело обнаружила уборщица. Похоронили его на средства штата Колорадо, наследовать было нечего. После него остался старый, страшно тяжелый, диковинного вида чемодан. В чемодане обнаружились альбомы фотографий и коллекция минералов. Покойный был геологом. Также там был обнаружен адрес его дочери, живущей в России. Соседи не решились выбросить чемодан, и теперь он несколько месяцев пылился у них в гараже.
Когда-то Петр Кириллович был красавцем и гордецом. Больше всего на свете он ценил независимость и свою способность никогда ни в чем не одалживаться. Еще он был знаменитым геологоразведчиком, доцентом и научным авторитетом. У него было много книг и женщин, но хранил и ценил он только книги. С женщинами он умел вовремя расставаться. Одна из них родила от него дочь. Однако и эта, почти сразу забытая им дама, не стала к нему, по излюбленному выражению Петра Кирилловича «цепляться», и он смог сохранить прежнюю независимость. Вскоре он эмигрировал в Америку, где сделал неплохую карьеру. В 90-е годы бывший сослуживец привез ему из России адрес дочери и рассказал Петру Кирилловичу, что мать ее уже умерла, но что у него есть два внука. Петр Кириллович озлился на сослуживца за плохо замаскированную попытку давить ему на сознательность и лезть не в свое дело, но адрес сохранил. Не то что бы эти новости его совсем не тронули, хотя он и не мог вспомнить имени своей бывшей возлюбленной, и долго не понимал, о ком вообще шла речь. Наличие внуков даже приятно пощекотало самолюбие. Просто он разумно посчитал, что все это для него уже поздно, а роль блудного дедушки не для него. Теперь этот адрес лежал в побитом жизнью чемодане в чужом гараже…
#12, ноябрь 2010 — Моисей Борода: Приговор
 Шёл последний день …го пленума Союза Писателей СССР.
Шёл последний день …го пленума Союза Писателей СССР.
На дворе стояла, постепенно подёргиваясь корочкой льда, возвещённая одноименной повестью писателя Эренбурга оттепель.
Машины с надписью «ХЛЕБ» и «МЯСО» развозили по городу, в отличие от недалёкого прошлого, то, что было на них написано, а молодые поэты, поощрённые дарованным сверху глотком свободы, читали у памятника Маяковскому, под благосклонное молчание великого поэта революции, свои стихи — такие же молодые, как они сами и как слушавшая их аудитория.
Выведенный на чистую воду бдительным оком Центрального Комитета злейший враг советского народа и агент всех разведок мира Лаврентий Берия был давно расстрелян. Освобождённые этим агентом, до его разоблачения, убийцы в белых халатах и изверги рода человеческого, они же сионистские прихвостни, были возвращены, под глухой ропот народного гласа, на свои рабочие места и теперь трудились на благо страны, искупая если и не свою вину, то уж, по крайней мере, высказанные им подозрения.
Свившая змеиное гнездо в самом сердце партии антипартийная группа была полностью разоблачена и, показав народу своё истинное лицо, тихо удалилась на менее ответственные посты, а то и вовсе в небытие — впрочем, чисто политическое…
#13, декабрь 2010 — Юлий Ким: Читающие Тору. Стихи
 Псалом 137
Псалом 137
Там, возле рек Вавилонских,
Как мы сидели и плакали.
К нам приходили смеяться:
«Что вы сидите и плачете?
Что не поете, не пляшете?»
Ерушалаим, сердце мое —
Что я спою вдали от тебя?
Что я увижу вдали от тебя
Глазами, полными слез?
Там, возле рек Вавилонских,
Нет нам покоя и радости.
Там, под плакучею ивой,
Арфы свои изломали мы,
Струны свои изодрали мы —
Ерушалаим, сердце мое —
Что я спою вдали от тебя?
Что я увижу вдали от тебя
Глазами, полными слез?
Там, возле рек Вавилонских,
Жив я единственной памятью.
Пусть задохнусь и ослепну,
Если забуду когда-нибудь
Камни, объятые пламенем,
Белые камни твои,
Ерушалаим, сердце мое!..
#14, январь 2011 — Евгений Беркович: Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна
 Томас Манн нелегко сходился с людьми. Поздравляя с семидесятилетием своего давнего друга и бывшего мюнхенского соседа, а теперь товарища по американскому изгнанию, знаменитого дирижера Бруно Вальтера, Томас Манн сетует на несовершенство английского языка: «Дорогой друг, это досадно. Только что мы после строгого испытательного срока длиной в 34 года договорились в дальнейшем обращаться друг к другу на ″ты″, а теперь я должен писать тебе письмо по случаю дня рождения, в котором это прекрасное начинание вообще не проявляется, так как на этом проклятом сверхцивилизованном английском даже к своей собаке обращаются ″you″»
Томас Манн нелегко сходился с людьми. Поздравляя с семидесятилетием своего давнего друга и бывшего мюнхенского соседа, а теперь товарища по американскому изгнанию, знаменитого дирижера Бруно Вальтера, Томас Манн сетует на несовершенство английского языка: «Дорогой друг, это досадно. Только что мы после строгого испытательного срока длиной в 34 года договорились в дальнейшем обращаться друг к другу на ″ты″, а теперь я должен писать тебе письмо по случаю дня рождения, в котором это прекрасное начинание вообще не проявляется, так как на этом проклятом сверхцивилизованном английском даже к своей собаке обращаются ″you″»
Не будем придираться к нобелевскому лауреату по литературе за то, что он в этом блестящем пассаже, открывающем поздравительное письмо, ради «красного словца» или по забывчивости, увеличил на пару лет и без того чудовищно огромный «испытательный срок». К семидесятилетию Бруно Вальтера в августе 1946 года знакомству с ним Томаса Манна никак не могло быть более тридцати двух лет.
В Мюнхен Бруно Вальтер переехал в 1913 году и был назначен главным дирижером королевского симфонического оркестра и художественным руководителем Мюнхенского оперного театра. Личное знакомство Томаса и Кати Манн с прославленным дирижером произошло не раньше 1914 года…
#15, февраль 2011 — Лариса Миллер: А надо обратиться в слух… Новые стихи
 А надо обратиться в слух,
А надо обратиться в слух,
Чтоб слышать как слетает пух
Небесный, как слетают строчки
То вместе, то поодиночке.
Ах, как весело между бездонностью этой и той
Между бездной, что снизу, и бездной светящейся, горней,
И не страшно, что время земное бежит всё проворней,
Если мы ограничены лишь глубиной, высотой,
Ну а значит, ничем. Ну а значит не будет конца…
Боже, как ослепительна снежная эта пыльца!
Я и чёрный свой день ни за что не отдам.
Я душой приросла даже к чёрным годам,
Даже к тем, что душили, стояли на вые.
Ведь они мною прожиты. Значит, родные.
Ну а если родные, то что же святей,
Что святей своих собственных хворых детей?
#16, март 2011 — Эрнст Левин: Опыт размышления над переводом
 Первым делом я попытался разобраться в жанре — что это за песенка? Прочитал её всю полностью, дважды, очень внимательно и сделал хороший подстрочник. Но не буду приводить его целиком, а разберу последовательно, куплет за куплетом, после того как найду общий подход к тексту. По форме это песня-молитва — монолог, обращенный к Богу. Причём её эмоциональность, темперамент, настрой — безусловно, женские, материнские, кроткие. Бывают монологи безличные. «Я другой страны такой не знаю» может петь и мужчина, и женщина. А «Тонкую рябину» мужику исполнять как-то даже неприлично. Но в ивритском оригинале никаких указаний на пол певца нет. Я попробовал петь, представляя певца мужчиной, — вышло фальшиво. Нет, молится женщина. Но это и не настоящая молитва (с прикрытыми или возведёнными к небу очами, жаркая, страстная, истовая, самоотверженная) — в ней всё время чувствуется задумчивость, полускрытая улыбка, добрый юмор, самоирония… Какая-то ласка… Игра слов…
Первым делом я попытался разобраться в жанре — что это за песенка? Прочитал её всю полностью, дважды, очень внимательно и сделал хороший подстрочник. Но не буду приводить его целиком, а разберу последовательно, куплет за куплетом, после того как найду общий подход к тексту. По форме это песня-молитва — монолог, обращенный к Богу. Причём её эмоциональность, темперамент, настрой — безусловно, женские, материнские, кроткие. Бывают монологи безличные. «Я другой страны такой не знаю» может петь и мужчина, и женщина. А «Тонкую рябину» мужику исполнять как-то даже неприлично. Но в ивритском оригинале никаких указаний на пол певца нет. Я попробовал петь, представляя певца мужчиной, — вышло фальшиво. Нет, молится женщина. Но это и не настоящая молитва (с прикрытыми или возведёнными к небу очами, жаркая, страстная, истовая, самоотверженная) — в ней всё время чувствуется задумчивость, полускрытая улыбка, добрый юмор, самоирония… Какая-то ласка… Игра слов…
Мёд и жало… Старая библейская антитеза. «Ни мёду, ни жала твоего мне не нужно»… Горькое и сладкое, волна и камень, лёд и пламень, день и ночь, чёрное и белое… Здесь любая пара подойдёт — например, смех и слёзы, свет и тень… Но при чём тут дочка-младенец? И что же мне так смутно напоминает этот мотив, этот размер? Что-то медленное, успокаивающее, ласковое. Напеваю, мурлычу… Вспомнил! 1977 год. Тель-Авив. Нашей доченьке пять месяцев. Никак не хочет засыпать. Мы — мама и папа — по очереди носим её на руках по комнате, импровизируя сюсюкальную колыбельную:
«У малютки нашей дочки
Очень розовые щёчки,
У малютки нашей крошки
Очень мягонькие ножки»…
Мама уже измучилась — сил нет! Эта сладенькая-вкусненькая то ревёт, то не спит, то животик болит… Вот оно — и мёд, и жало, храни её Господи, эту писюшку!.. (Надо будет перенести «нашу дочь-младенца» из третьей в четвёртую строчку — на закуску, для неожиданности!) Постойте, да ведь это и есть разгадка жанра: молитва-колыбельная! Вот так я и буду её переводить: представляя себе, что мама ходит с ребёнком на руках, напевает и думает о чём-то другом, отвлечённом — чтобы всем было хорошо: сначала другим, затем близким и в последнюю очередь — самой себе. Хорошее хранится лучше, но не стоит забывать и плохого. И смех, и слёзы… И смех сквозь слёзы… И чем больше она ревела, эта кроха, тем дороже становилась и родней…
Итак, первый куплет, пожалуй, готов — напишем так:
Сохрани мне, добрый Боже,
Боль и радость, день и ночь,
Мёд храни — и жало тоже,
И малютку дочь.
#17, апрель 2011 — Григорий Рыскин: В гостях у варяжского гостя. Норвежский репортаж
 Куда ушли викинги? Они здесь. На берегу фьорда — стройный великан. Кайзер Норвегии Вильгельм. С мечом. Броня надета на звериные шкуры. Холодно. Пьедестал из диких валунов. К его подножью сбегают плантации малины. Корни разлатых кустов укрыты черным полиэтиленом. Под ним обогревательные электропровода. И склад и лад. Робкий пакистанец протягивает мне через проволоку пригоршню спелой малины в лодочке ладони…
Куда ушли викинги? Они здесь. На берегу фьорда — стройный великан. Кайзер Норвегии Вильгельм. С мечом. Броня надета на звериные шкуры. Холодно. Пьедестал из диких валунов. К его подножью сбегают плантации малины. Корни разлатых кустов укрыты черным полиэтиленом. Под ним обогревательные электропровода. И склад и лад. Робкий пакистанец протягивает мне через проволоку пригоршню спелой малины в лодочке ладони…
Куда ушли викинги? Неужели только в исландские Эдды? Где реликты их поэтической дерзости? Не в этой ли цветущей на диких скалах стране? Человеческая личность в ее предельной самостоятельности… Ее способность к самопожертвованию…
Не этот ли характер выковал Норвегию…
В семидесятые годы я работал школьным учителем в тюрьме для несовершеннолетних преступников… В Колпино, под Ленинградом. Едва не половина учеников — убийцы. В моих трех классах были вологодские, архангельские, новгородские урки. Все нордические блондины… Во внешности и повадках сказывались варяжские гены… Остриженные под нулевку черепа были сплошь изрублены шрамами. Эти потомки норманнов имели обыкновение драться кольями, ломиками, стальными шкворнями…
Деревня на деревню.
Когда тысячу лет назад их пра-пра-пра-прадеды нашли подобный образ действий неплодотворным, они пошли грабить европейские побережья.
#18, май 2011 — Юлий Герцман: Примерка
 Я умер на правом боку.
Я умер на правом боку.
Секунд за двадцать до смерти я подумал, что хорошо бы принять достойную позу: лечь на спину, вытянуть ноги («протянуть» — хе-хе-хе…), скрестить руки, закрыть глаза… Вялое желание было отброшено, едва появившись: во-первых, жаль терять последние драгоценные мгновения жизни, а во-вторых, я знал, что едва электроны, несущие весть о моей кончине, домчатся до ординаторской, оттуда немедля рванут двое молчаливых гавриков с дефибриллятором. Они приложат к моему бездыханному телу похожие на утюги контакты, и тело дернется от электроудара, затем еще раз дернется и, может, оживет, откроет глаза и минут десять будет тупо упираться ими в случайную точку.
А может — и нет.
Вчера не ожил насельник соседней койки. После обеда ко мне подошла медсестра со шприцом: «Доктор велел вколоть вам строфантин». Она уже протерла спиртом предплечье и вдруг спохватилась: «Извините, это не вам, а соседу». Вколола соседу, он заохал: «Ох, мне плохо, я умираю».
И не обманул…
#19, июнь 2011 — Эдуард Бормашенко: Чехов

Чехов — наименее устаревший русский классик. У него есть слабые страницы, но нет — устаревших. У Толстого и Достоевского есть, а у Чехова — нет. Дело в том, что мир Толстого и Достоевского сметен, смыт дотла. По улицам не ходят Андреи Болконские, Пьеры Безуховы и генералы Епанчины. В дружеских беседах не разрешают конечные вопросы бытия и не клянутся страшными клятвами. Современной барышне, освоившей премудрость противозачаточных пилюль, трудно взять в толк, отчего бросилась под поезд Анна Каренина. Изменился сам воздух, которым мы дышим, но Чехов дышал уже этим, нашим воздухом…
Наш мир — чеховский, всякая пафосная, ходульная фраза режет слух, всякое повышение интонации должно быть немедленно погашено иронией. Никакое дело не вдохновляет до самозабвения. Другого неба нет, а то, что над головой не радует…
Чехов — светский святой, редчайшая человеческая порода, к которой принадлежали Корчак, Сахаров. Мировые религии, озабоченные своими проблемами, проглядели феномен светской святости. Что давало силы светским святым? Их трудно подвести под общий знаменатель. Чехов — воплощенные интеллигентность и джентльменство, Чехов был, что называется, perfect gentleman.
Определить интеллигентность непросто. Главное в ней, пожалуй, умение не обременять собой окружающих, делать их жизнь переносимой. За несколько минут до смерти «увидев врача, Антон Павлович приподнялся, сел на подушках и, повинуясь свойственному ему рефлексу вежливости, заговорил по-немецки (вообще он языка почти не знал). «Ich sterbe…», «я умираю» — спокойно и серьезно сказал он доктору. Тот сразу же сделал пациенту укол камфары, дал кислород. Потом, поскольку принятые меры не помогали, распорядился послать за новым кислородным баллоном. Чехов тихо запротестовал: «Не надо уже больше. Прежде, чем его принесут, я буду мертв»…
еховская интеллигентность и джентльменство — высокой и редкой пробы, ибо — самодостаточны, не нуждаясь ни в каких внешних подпорках. Это качества воспитавшего себя человека (вот уж, кому они достались не от предков). Беда, однако, в том, что джентльменство плохо прививается на русской почве (органично оно, кажется, только у себя на родине, в Англии), а интеллигентность не наследуется. Клонировать Чеховых не удастся.
Не только писать, но и жить «под Чехова» — невозможно. Людьми легче всего усваиваются внешние формы, антураж религии ли, интеллигентности ли. Несложно обзавестись чеховской бородкой и мягкими манерами, немыслимо трудно изменить строй души так, чтобы, не теша себя иллюзиями насчет окружающих, оставаться «готовым к услугам»…
#20, июль 2011 — Ион Деген: Баллада о солдате
 Первая перевязка после операции. Рана ещё так болезненна. Повязка приварена к ней запекшейся кровью. Движения хирурга максимально осторожны. К тому же, если хирург сам ощущал подобное. Очень больно. Очень.
Первая перевязка после операции. Рана ещё так болезненна. Повязка приварена к ней запекшейся кровью. Движения хирурга максимально осторожны. К тому же, если хирург сам ощущал подобное. Очень больно. Очень.
Позавчера умер Марк Азов. Рана кровоточит. Болит. И кровь ещё не свернулась. С какого края снимать повязку, хоть она и не присохла? С харьковского детства, о котором можно только догадываться? Ретроспективно со дня последней нашей встрече, встрече двух стариков с похожими биографиями?
О детстве Марика Айзенштадта можно только догадываться или реконструировать его, прочитывая произведения Марка Азова. Но совершенно очевидно, что это был необычный мальчик, которому Всевышний подарил большой талант поэта.
Многие в отроческом возрасте пишут стихи. Вернее, рифмуют. Но многие ли из этих пишущих могут обратить на себя внимание человека с абсолютным слухом на поэзию? Выдающийся литератор Корней Чуковский, прочитав стихи шестнадцатилетнего Марка Айзенштадта, сказал, что поэзии его учить не надо. Он уже состоявшийся поэт. Он родился поэтом.
В восемнадцатилетнем возрасте поэта призывают в армию. И после окончания пехотного училища невысокий худенький младший лейтенант Айзенштадт, то есть, совсем не богатырь, становится командиром стрелкового взвода на Втором Белорусском фронте. Поскольку не без участия Главного политического управления Красной армии в стране распространяют слухи о том, что евреи не воюют, а прячутся в Ташкенте, младший лейтенант Айзенштадт, который еврей, старается в бою быть первым. И вскоре он становится командиром взвода разведки. Знаете, во взводе разведки особые отношения между подчинёнными и командиром, особая субординация. Тут командир не может обойтись звездочками на погонах…
#21, август 2011 — Борис Кушнер: Повелитель зари. Избранные стихи, апрель-июнь 2011 г.
 Теперь пора заканчивать дела,
Теперь пора заканчивать дела,
Пока жива последняя минута. —
Седым стеклом правдивы зеркала,
Они не лгут мне больше почему-то.
Уже пуста казна небесных манн —
Декабрьский лес недвижен и безлиствен. —
И даже возвышавший нас обман
Навек погублен тьмою низких истин.
Теперь пора. И подведён итог.
Погасли люстры. Опустели ложи.
Пора идти. А если Моцарт — бог,
Он, как дитя, об этом знать не должен.
Не пой и ты про Тайны развенчанье.
Оркестр умолк. Дальнейшее — молчанье.
#22, сентябрь 2011 — Владимир Слуцкий: Рената Муха. Воспоминания о ней и биография (реконструкция) — Устные рассказы, были, байки
 …Еще в той стороне были Ташкентский медицинский и базар. Однажды, возвращаясь оттуда, к нам заскочила моя очень взволнованная одесская тетя, тоже эвакуированная в Ташкент, и с порога закричала:
…Еще в той стороне были Ташкентский медицинский и базар. Однажды, возвращаясь оттуда, к нам заскочила моя очень взволнованная одесская тетя, тоже эвакуированная в Ташкент, и с порога закричала:
— Чтоб я так жила, кого я только что видела! Эту «Муля, не нервируй меня».
Вмешалась наша соседка:
— Ну да, она же (имея в виду Фаину Раневскую) там снимает комнату вместе с этой писательницей.
— С этой писательницей, — горько сказала моя мама и прочитала первое любовное стихотворение, которое я услышала в жизни. Оно кончалось так:
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
— Это Анна Ахматова, — сказала мама мне.
Позже она много рассказывала про Ахматову, читала ее стихи. И, когда я встречала на улице женщину покрасивее и в мало рваном платье, я думала:
— Наверное, это Анна Ахматова…
#23, октябрь 2011 — Александр Матлин: Последствия тяжелого детства

Утром я позвонил в полицию.
— Я вас понимаю, — участливо сказал дежурный, выслушав мою жалобу. — Мы составим полицейский рапорт и пошлём его в вашу телефонную компанию. Тем временем вы должны сами позвонить в телефонную компанию и всё им объяснить. Они тоже составят рапорт и пришлют его нам.
— Понятно, — сказал я. — И после этого вы узнаете, кто мне звонил?
— Ну, это вряд ли, — сказал полицейский. — Телефон ведь анонимный.
— Тогда зачем составлять рапорты?
— Как это — зачем? — обиделся полицейский. — Мы обязаны реагировать на жалобы налогоплательщиков.
— А что мне делать?
— У вас есть несколько вариантов, — сказал полицейский. — Вы можете поменять номер телефона. Или переехать в другой штат. Луизиану я вам не советую: там очень жарко. Я сам оттуда. Ваша телефонная компания может вам подсказать другие варианты.
— Спасибо, — сказал я. — То, что вы советуете, — это, так сказать, пассивные методы защиты. Хулиган останется не пойманным.
— А зачем вам его ловить? — удивился полицейский…
#24, ноябрь 2011 — Людмила Штерн: Неистребимый
 Пётр Волкин стоял посередине коммунальной кухни и, надув щёки, пытливо осматривал полки. Ни одной годной к сдаче бутылки он не обнаружил.
Пётр Волкин стоял посередине коммунальной кухни и, надув щёки, пытливо осматривал полки. Ни одной годной к сдаче бутылки он не обнаружил.
— И где они их прячут? Будь они прокляты, — раздражённо спросил Пётр окружающее пространство.
Пространство безмолвствовало, потому что никого из жильцов не было дома. Безмолвствовало и Время, ибо соседский будильник с утраченной минутной стрелкой уже лет пять не напоминал населению квартиры 6 по переулку Пирогова, 17 о быстротечности их жизни. Пётр почесал разбухший, цвета майской сирени нос и вдруг почувствовал, как неотложная и грозная проблема опохмелиться сжала стальной клешней его тело и душу.
Но башлей не было, как не было ни малейшей надежды их достать.
«Хромовые сапоги», — блеснула спасительная мысль и тотчас погасла, как хилая спичка. Вчера он обменял их на «мерзавчик» у начальника котельной Григория Порфирьевича.
— Прокошка, жох, мог бы и на полбанки расколоться, — горько усмехнулся Пётр Волкин.
Он вернулся в свою комнату, открыл шкаф и встретился глазами с единственным своим костюмом. Румынский полушерстяной смотрел на Волкина с немым укором.
— Будь спок, — сказал костюму Пётр. — Обещал не пропить и не пропью. Я сеструхе поклялся, что меня в тебе похоронят…
#25, декабрь 2011 — Игорь Ефимов: В Царстве Клио. Главы из новой книги
 Сорок дней спустя, 8 марта, было устроено грандиозное прощание — поминовение — в Соборе Святого Иоанна Богослова, в Манхеттене… Снежная буря, налетевшая на Нью-Йорк в тот вечер, была пострашнее грозы, разразившейся в день похорон Довлатова. Мой автомобиль был отпаркован довольно далеко от собора, и мы шли к нему с Гординым и ещё одной парой ослеплённые ледяным ветром, наугад ступая по быстро растущим сугробам. На полпути я затолкал своих пассажиров в какое-то парадное и велел ждать меня с машиной.
Сорок дней спустя, 8 марта, было устроено грандиозное прощание — поминовение — в Соборе Святого Иоанна Богослова, в Манхеттене… Снежная буря, налетевшая на Нью-Йорк в тот вечер, была пострашнее грозы, разразившейся в день похорон Довлатова. Мой автомобиль был отпаркован довольно далеко от собора, и мы шли к нему с Гординым и ещё одной парой ослеплённые ледяным ветром, наугад ступая по быстро растущим сугробам. На полпути я затолкал своих пассажиров в какое-то парадное и велел ждать меня с машиной.
До квартиры Энн Кжелберг ехали сквозь сплошной буран чуть ли не час, я едва различал огни светофоров. Но когда вошли в помещение, когда увидели оживлённые лица красные от мороза и выпитого вина, печаль и торжественность начали быстро испаряться. Это было так похоже на празднование очередного дня рождения Бродского. Только к обычному кругу гостей добавились друзья, прилетевшие из России, — Гордин, Найман, Уфлянд — и десятка два незнакомых американцев.
Посредине комнаты-зала стояли со стаканами в руках четверо самых знаменитых поэтов: Дерек Уолкот, Шеймас Хини, Марк Стрэнд, Чеслав Милош. Они весело болтали между собой без всяких надменных улыбок, обещанных Блоком. Я вдруг подумал: «А ведь все они старше Иосифа». Нет, не живут русские поэты долго. Если бы не вмешательство американских кардиологов и хирургов, Бродский исчез бы из мира живых в возрасте Пушкина, Есенина, Маяковского, Мандельштама, Высоцкого. Он предвидел свою судьбу, болезнь не оставляла места для иллюзий. Уже в 1989 году были написаны строчки «Век кончится, но раньше кончусь я». А в 1994 году появилось очаровательное, откровенно прощальное стихотворение:
Меня упрекали во всём, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.
«Мерцать в проводах лейтенантом неба» — такую судьбу Бродский выбрал себе, вместо памятника с «главою непокорной».
#26, январь 2012 — Борис Тененбаум: Кем был Шекспир?

Самые большие сомнения вызывал единственный известный нам документ, если не написанный, так хоть подписанный Великим Бардом — его завещание. Например, в завещании Шекспира расписано с подробностями, кому должна достаться его “…вторая по качеству кровать…”. Друзьям отписана некая малая сумма на то, чтобы заказать себе кольца в память покойного.
Бен Джонсон в списке друзей не упомянут…
Завещание написано очень и очень хозяйственно — завещатель хочет и с того света контролировать свои деньги, и порядок наследования расписан чуть ли не седьмого колена. При этом заботливом отношении к имуществу почему-то оказывается, что дочери Шекспира практически неграмотны — старшая с трудом, но попыталась расписаться, а младшая, Джуди, «…приложила знак…».
Подпись завещателя поставлена нетвердой, дрожащей рукой, к письму вроде бы непривычной. Каноническая теория объясняет это тем, что Шекспир был уже очень болен. Возможно…
О рукописях в завещании нет ни слова, хотя их издание принесло бы сумму, раз так в 5-6 большую, чем все движимое имущество завещателя. Почему они не упомянуты? Это утверждение легко проверить — изданное в 1623 году Фолио стоило по сотне фунтов за копию, а отпечатали их больше тысячи. Шекспир не подозревал, что его рукописи имеют коммерческую ценность?
В опись имущества не внесена ни единая книга — почему? Актер целиком полагался на память, на библиотеки своих друзей-аристократов, на рассказы моряков в пабе, куда он ходил? Неясно, непонятно, таинственно и так далее…
Больше всего людей, читавших завещание, задевала какая-то неприятная хозяйственность документа. Перед глазами представал мелкий собственник, эдакий куркуль-мироед. Где тот гордый дух, который создал «Гамлета» и «Короля Лира»? Зигмунд Фрейд говорил, что автор завещания и автор творений Шекспира не мог быть одним и тем же человеком — такое вот у него сложилось впечатление. Ну, впечатление — не документ, к делу не пришьешь…
#27, февраль 2012 — Борис Горобец: Неизвестное о подвиге академика П.Л. Капицы, спасшего Л.Д. Ландау из тюрьмы НКВД
 На Лубянке Капице предложили ознакомиться с томом (или томами) «Дела Ландау», сказав, что это опасный государственный преступник. Капица отказался, пытаясь оградить себя от бесперспективной, как он догадывался, полемики с обвинением Вероятно, в этот первый момент он рассуждал так, как это описано у Е.Л. Фейнберга (см. выше). Но не тут-то было! Почему при отказе Капицы открывать тома по закладкам, комиссары НКВД не стали сообщать Капице об антисталинской листовке? И для чего тогда были сделаны эти закладки в томах? Ведь подлинная листовка со словами о «сталинском фашистском режиме» была беспроигрышной козырной картой следователей НКВД. И раз Капица отказался смотреть «Дело Ландау», то комиссары наверняка сами раскрыли том на одной из закладок и предъявили своего козырного туза».
На Лубянке Капице предложили ознакомиться с томом (или томами) «Дела Ландау», сказав, что это опасный государственный преступник. Капица отказался, пытаясь оградить себя от бесперспективной, как он догадывался, полемики с обвинением Вероятно, в этот первый момент он рассуждал так, как это описано у Е.Л. Фейнберга (см. выше). Но не тут-то было! Почему при отказе Капицы открывать тома по закладкам, комиссары НКВД не стали сообщать Капице об антисталинской листовке? И для чего тогда были сделаны эти закладки в томах? Ведь подлинная листовка со словами о «сталинском фашистском режиме» была беспроигрышной козырной картой следователей НКВД. И раз Капица отказался смотреть «Дело Ландау», то комиссары наверняка сами раскрыли том на одной из закладок и предъявили своего козырного туза».
Этого Капица ожидать никак не мог, он наверняка растерялся, был шокирован хотя бы в первую минуту. Ведь он сам писал как Сталину, так и Молотову, что ручается, что Ландау ни в чем невиновен, что «если Ландау виноват, он должен ответить» (из письма Сталину от 28 апреля 1938 г.). И вдруг Капица разом теряет силу всей своей защитительной аргументации, потому что Ландау уличен бесспорно, без подделок, в тягчайшем преступлении той эпохи ─ агитации против товарища Сталина, прямом его оскорблении (назван фашистом) и призывом к борьбе со сталинским режимом. И сразу становится неинтересной беспредметная болтовня о Ландау как немецком шпионе.
Как мог предположительно реагировать Капица, увидев эту жуткую листовку? Мог заявить, что это фальшивка, что она написана по принуждению следователей. Но Капица был воистину мудр, он слишком хорошо знал Ландау, и, наверное, интуиция подсказала ему, что листовка подлинная. Не исключено, что комиссары даже предложили вызвать сейчас же Ландау, чтобы он сам рассказал, как было все дело. И Капица наверняка отказался от такой очной ставки, понимая, что когда Ландау повинится и взглянет ему прямо в глаза, то это загонит их обоих в бесповоротный тупик. Наступил, как говорят, момент истины, вероятно, явившийся поворотным моментом во всей истории советской теоретической физики. Именно в этот момент проявились истинная мудрость, дальновидность и несравненный героизм Капицы. Он совершил подвиг, который, к сожалению, не смогли до сих пор в полной мере понять и оценить близкие к нему лица. Все те, которые много позже один за другим обсуждали одну и ту же абсурдную — по факту отсутствия такого обвинения!— историю о том, был ли Ландау немецким шпионом. Окружение Капицы не поняло, что он их всех обвел вокруг пальца — для их же блага, для блага Ландау и своего собственного. Как и зачем он это сделал?..
#28, март 2012 — Виктор Гопман: Коммерции сотрудник
 «Ну, и сколько ты сейчас у себя получаешь?» — спросила Ларочка, не переставая иронически улыбаться. — «Ну, сто восемьдесят пять…» — Для начала положим тебе триста пятьдесят, но это только на первое время». — «А потом?» — «С первого января начнется новая жизнь». — «Почему с первого января?» — «Расклад такой». — «И что это значит — новая жизнь?» — «Отвечаю. Директор вашего НИИ, доктор-профессор, сколько имеет в месяц, знаешь? Так у тебя будет вдвое. Не считая всяческих прочих радостей. Ну, и долго еще тебя уговаривать?» — «Да согласен я. Дальше что?» — «Дальше вот что. До конца недели сможешь в своей лавочке расквитаться? Действуй, чтобы в понедельник уже приступить к реальной работе».
«Ну, и сколько ты сейчас у себя получаешь?» — спросила Ларочка, не переставая иронически улыбаться. — «Ну, сто восемьдесят пять…» — Для начала положим тебе триста пятьдесят, но это только на первое время». — «А потом?» — «С первого января начнется новая жизнь». — «Почему с первого января?» — «Расклад такой». — «И что это значит — новая жизнь?» — «Отвечаю. Директор вашего НИИ, доктор-профессор, сколько имеет в месяц, знаешь? Так у тебя будет вдвое. Не считая всяческих прочих радостей. Ну, и долго еще тебя уговаривать?» — «Да согласен я. Дальше что?» — «Дальше вот что. До конца недели сможешь в своей лавочке расквитаться? Действуй, чтобы в понедельник уже приступить к реальной работе».
Вот так началась для меня новая экономическая реальность эпохи перестройки. Еще вчера пресловутый «старший научный сотрудник без степени», с начала следующей недели я становился сотрудником совсем иной структуры, переходя из организации на три буквы — НИИ — в двухбуквенное образование — СП. Совместные предприятия в ту легендарную пору конца 80-х годов принялись активно заполнять хозяйственное пространство страны необъятных Советов, проникая во все возможные сферы человеческой деятельности — от высоких технологий до шоу-бизнеса.
И вот после разговора с Ларисой появляюсь я на рабочем месте. «Зачем пришел?» — спрашивает меня удивленный начальник, поскольку я должен был в это время сидеть в библиотеке и черпать из иностранных журналов крупицы новейшей научной премудрости. — «Дело есть», — отзываюсь неопределенно и, присев за свой стол, по-быстрому катаю заявление об уходе. И без лишних слов подаю его начальнику. — «Забери и порви, — бодро отреагировал тот. — Я даже слушать не хочу, не то что подписывать. Чем тебе тут плохо? Три библиотечных дня в неделю, сам себе хозяин. А с Нового года зарплату повысим». — «И на сколько?» — иронически ухмыльнулся я. — «Дадим тебе две сотни». — «У меня, — сообщаю, стараясь держаться по возможности небрежной интонации, — со следующего понедельника уже будет три с половиной». — «Хватит болтать, — разозлился начальник. — Где ж такие деньги платят?» — «Да уж не в госучреждениях». — «А ты что, рискуешь нырнуть в этот самый бизнес? Платные сортиры и чебуреки с собачиной?» — «Зачем же так грубо — «с собачиной»? Принято пользоваться эвфемизмом: «цепные бараны»…
#29, апрель 2012 — Татьяна Разумовская: Как я однажды была училкой
 Училкой я была недолго, с ноября месяца и до выпускных экзаменов, неполный учебный год. До того я успела официально поработать дворником, препаратором Института гриппа, личным библиотекарем писательницы Н.В. Гернет, экскурсоводом в Пушкинских Горах, уборщицей, «девушкой-на-выданье» научной библиотеки, вооруженным охранником центрального телеграфа г. Ленинграда…
Училкой я была недолго, с ноября месяца и до выпускных экзаменов, неполный учебный год. До того я успела официально поработать дворником, препаратором Института гриппа, личным библиотекарем писательницы Н.В. Гернет, экскурсоводом в Пушкинских Горах, уборщицей, «девушкой-на-выданье» научной библиотеки, вооруженным охранником центрального телеграфа г. Ленинграда…
В общем, моя пухлая трудовая книжка, видимо, страшно надоела кафедральному начальству Ленинградского ордена Ленина университета им. А.А. Жданова, и в деканате мне заявили, что на последнем курсе вечернего отделения филфака рекомендуется работать «м-м-м… ближе к будущей профессии, вы меня понимаете?»
Я поняла, и добрые люди направили меня в школу при ленинградской кондитерской фабрике им. Н.К. Крупской — там учительница русского языка и литературы безответственно ушла в законный декрет буквально в начале учебного года.
Здание школы было стандартной скучной коробкой, но вокруг него, во всём районе, всегда восхитительно пахло горячим шоколадом.
…Поскольку тогда в стране цвела кампания, громогласно заявлявшая, что в Советском Союзе все имеют, как минимум, десятиклассное образование, партийная организация кондитерской фабрики обязала всех рабочих, такового не имеющих, его получить. Для чего им был выделен раз в неделю полный учебный день, который засчитывался как трудовой. А отлынивавших песочили на собраниях, ставили им прогул и «били рублём».
Но вся эта великая идея, несомненно, восходившая к той мифической кухарке, «которая может управлять государством», в результате вылилась в пословицу о лошади, которую можно завести в воду, но заставить пить её не удастся никому…
#30, май 2012 — Наум Зайдель: В начале сотворил Бог звук и ритм. Заметки по поводу фильма режиссера Олега Дормана «Нота»
 В 1977 году Баршай эмигрировал в Израиль. Израильское радио в передаче «Последние известия» сообщило о его приезде… Благодаря усилиям Голды Меир и Вилли Брандта, бывшего канцлера Западной Германии, приехала в Израиль Елена Баршай. Удивительное достижение по тем временам, так как супружеские отношения Баршая и Елены не были зарегистрированы официально в Советском Союзе. По приезде Елены я бывал у них неоднократно, сначала в пустой, а потом со вкусом обставленной мебелью квартире.
В 1977 году Баршай эмигрировал в Израиль. Израильское радио в передаче «Последние известия» сообщило о его приезде… Благодаря усилиям Голды Меир и Вилли Брандта, бывшего канцлера Западной Германии, приехала в Израиль Елена Баршай. Удивительное достижение по тем временам, так как супружеские отношения Баршая и Елены не были зарегистрированы официально в Советском Союзе. По приезде Елены я бывал у них неоднократно, сначала в пустой, а потом со вкусом обставленной мебелью квартире.
Приглашая Баршая возглавить Израильский Камерный оркестр, местные музыкальные функционеры предполагали и надеялись, что он сделает из него оркестр, не уступающий по мастерству и звучанию Московскому. Так и произошло.
После двух лет работы с Баршаем Израильский Камерный оркестр играл «Искусство фуги» И.С. Баха не хуже Московского. Это были событийные концерты в Израиле.
Какими же тугими на ухо «глухарями» оказались околооркестровые власть предержащие и некоторые израильские музыкальные критики. Они видели в Баршае не музыканта-художника, а отставшего от времени педагога-репетитора, без свежих идей и фантазии, а исполнение оркестра скучным, музейным. Закончив концертный сезон 1980-81 года, Маэстро уехал в Германию, где у него были обязательства работать как гость-дирижер с оркестром Западногерманского радио. Там он получает сообщение из Тель-Авива, извещающее, что договор, заключенный с Израильским камерным оркестром не будет продлен…
#31, июнь 2012 — Евгений Кисин: Может ли гений быть понятым всеми при жизни?
 Евгений Федорович Светланов — не просто один из многих великих музыкантов, творчеством которых я неизменно восхищаюсь: его искусство, главными составляющими которого являются эмоциональность и творческое начало, всегда было очень близко моему сердцу. К сожалению, нам не довелось общаться так много, как мне хотелось бы, но каждая из наших встреч, каждое наше совместное выступление для меня дороги и незабываемы.
Евгений Федорович Светланов — не просто один из многих великих музыкантов, творчеством которых я неизменно восхищаюсь: его искусство, главными составляющими которого являются эмоциональность и творческое начало, всегда было очень близко моему сердцу. К сожалению, нам не довелось общаться так много, как мне хотелось бы, но каждая из наших встреч, каждое наше совместное выступление для меня дороги и незабываемы.
Впервые я увидел Евгения Федоровича живьем, когда был еще подростком, в середине 1980 годов, в Большом зале Московской консерватории. Если мне не изменяет память, я спускался по лестнице для артистов, а он поднимался по ней — шел на репетицию. Ни на кого не смотрел, весь был погружен… мне, как и любому музыканту, было понятно: не в себя, а в музыку погружен был, в музыку, которую ему предстояло творить. Любой человек, даже далекий от музыки и не знающий, кто это поднимается по лестнице, если бы увидел Евгения Федоровича в ту минуту, то сразу понял бы: это — необыкновенный человек, не «простой смертный»…
А несколько лет спустя, в 1990 году, началось наше сотрудничество. Самым памятным из первых наших совместных выступлений с Евгением Федоровичем был концерт с Госоркестром в Тулузе, когда мы сыграли 1-й концерт Чайковского. Это был один из тех вечеров, когда, как говорят музыканты, попадаешь в самую точку: все удавалось, и было какое-то необыкновенное слияние и с музыкой и друг с другом. Евгений Федорович был очень доволен и потом сказал, что я… напоминаю ему его самого в молодости! А во втором отделении исполнялась 3-я симфония Чайковского. У меня еще с детства, помню, засел в голове стереотип, что 3-я — «самая неудачная» из всех симфоний Петра Ильича, и до того вечера в Tулузе я относился к этому сочинению соответственно. Светланов же продирижировал тогда симфонию настолько ярко и вдохновенно, что я просто влюбился в эту музыку — и люблю ее по сей день. А на бис — Адажио из «Щелкунчика» и «Пляска скоморохов»: это уже был какой-то фейерверк! От того концерта осталось у меня ощущение самого настоящего праздника…
#32, июль 2012 — Вильям Баткин: Молодой Булат

Его нет с нами уже несколько лет, но в сердцах российской интеллигенции — и материковой, и в дальнем Зарубежье, и у нас, на Земле Обетованной, — помнят его светлый лик, неповторимый, неподражаемый: мудрые и печальные глаза, узкая щетинка усов, седая разворошенная пролысина над огромным лбом, твидовый пиджачок, негромкий московский говорок, баритон, подхваченный и усиленный аккордами гитары, растревоженной тонкими пальцами барда. Но главное — для меня, по крайней мере, — непостижимая тайнопись слов, надиктованная Свыше, услышанная и сотканная великим лириком, — он был им по складу души, по самой строчечной сути. Растиражированный в миллионах кассет и компакт-дисков, озвученный лазерными лучами, он входит в наши обители, привычно присаживается на краешек эстрадного стола, настраивает гитару… Как в прежние годы, когда его можно было запросто встретить и в извечной московской тусовке, и на зарубежных гастролях. Но нынче я — об иной встрече, сбереженной в тайниках моей души и выплеснутой исподволь из памяти, нежданно, не к печальной дате…
Нас познакомил Борис Абрамович Слуцкий…
Именно так, по имени-отчеству, к нему обращались и маститые — Константин Симонов, Михаил Луконин, патриарх русской поэзии древнерусский еврей Павел Антокольский, и младшие собратья по перу. Я не ходил в его учениках, возникал нечасто, переминался вежливо в дверях, едва ли был его надеждой… Он пытался из меня сделать поэта — безжалостной рукой, извечно жесткий, без намека на улыбку, без сантиментов, израненный поэт и политрук зачастую отвергал мои, сколоченные рифмами, политизированные строки. По мне, нынешнему, — либеральничал со мной. Авось бы состоялся… Он сам заваривал байховый чай, поил меня густым наваром, угощал магазинными пирожками, непременно с творогом, усаживал на продавленный диван, по слухам — Маяковского, подаренный Слуцкому Лилей Брик. Однажды он, к слову, поведал притчу: спросили у Маяковского — сколько он пишет хороших стихов, сколько плохих? «Я пишу пять хороших и пять плохих», — ответил поэт. «А Блок?» — «Блок восемь плохих и два хороших, но мне таких никогда не написать». — И виновато улыбнулся.
 Как-то, отобрав несколько моих рукописных листиков, Слуцкий поднял телефонную трубку:
Как-то, отобрав несколько моих рукописных листиков, Слуцкий поднял телефонную трубку:
— Булат? Здравствуй! У меня в гостях земляк, харьковчанин. Да, стихи. Разберешься, дурного не насоветую. Здоров будь. Перезвоню.
Плутая по коридорным лабиринтам редакции «Литературной газеты», не вдруг отыскал нужную дверь — отдел поэзии, крохотный, словно келья, кабинет, по обоям обклеенный газетными вырезками. На одной из стен, на гвоздике вколоченном, одиноко, неприкаянно — старенькая семиструнная гитара. На краешек стола присел молодой человек небольшого роста, хрупкие плечи стянуты светлым свитером крупной вязки под горло, тонкая щетинка усов, непокорный вихор — пышные и густые черные волосы пытается утихомирить левой пятерней, правую протягивает мне:
— Булат.
— Булат? — спрашиваю растерянно, ищу другого, вымышленного — ожидал увидеть гиганта широкоплечего, крепкого, несгибаемого, словно клинок из стали одноименной…
#33, август 2012 — Ася Лапидус: Начало без конца. Вариации на тему и без темы
 Моя мама сияющая и шоколадная — у нее сияющие шоколадные волосы, сияющие глаза шоколадными вишенками светятся в темноте, и даже зубы тоже сияют — искрящееся глазами и улыбкой лицо. Только позже по фотографиям, когда ее не станет, я пойму, что мама у меня настоящая красавица. А я похожа на папу — у него зеленые глаза и ироническая улыбка. От него пахнет ветром. Он моложавый, никогда не поседеет, уйдет из жизни рано в 67 лет, а мама в 93 — в Нью-Йорке.
Моя мама сияющая и шоколадная — у нее сияющие шоколадные волосы, сияющие глаза шоколадными вишенками светятся в темноте, и даже зубы тоже сияют — искрящееся глазами и улыбкой лицо. Только позже по фотографиям, когда ее не станет, я пойму, что мама у меня настоящая красавица. А я похожа на папу — у него зеленые глаза и ироническая улыбка. От него пахнет ветром. Он моложавый, никогда не поседеет, уйдет из жизни рано в 67 лет, а мама в 93 — в Нью-Йорке.
У моих родителей — полно свободного времени, которое они щедро проводят со мной — они оба безработные — я об этом не знаю, и между прочим, это означает, что жить не на что — я и этого не знаю, и когда меня укладывают спать — протестую — я еще не поужинааала — у меня простонародно-московский говор, подхваченный у Егоровны — кое-какие гласные проглатываю, кое-какие растягиваю. Не сказать, что голодаю — скорее не хочу отказаться от должного распорядка, но в лице мамы тревога — ребенок не кормлен — ты что — кто же на ночь ест — спать немедленно, а папа добавляет каким-то не своим учительским тоном — мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть — расхожая мудрость устанавливает привычность — ужин не нужен, был бы обед — у меня-то был, а у родителей — не думаю. И вдруг случается чудо — по этому немыслимому поводу раздвинут наш навощенный ломберный столик, и прямо на бордовое сукно слетаются — денежные бумажки — папе заплатили за неожиданную халтуру — он все разменял на рубли — получилась куча денег — и игра — папа приплясывает у стола, и я за компанию вместе с ним — но не сказать, что по-настоящему весело — у мамы в глазах слезы.
Чудеса в решете и на каждом шагу — в Елисеевском магазине — где в высоте текучий потолок и лампочки гроздьями и пахнет незнакомой жизнью — маме по ошибке пробили чек на целый килограмм фарша — вместо ста граммов — она всю дорогу бежала, прижимая пакет к себе — боялась — гонятся. И я боялась — отчего, почему — догадайся, почему — стука в окно — откуда я это взяла — загадки не имеют отгадки.
Мы с мамой много гуляем — отчетливо-одинокими грустными вечерами по темнеющим переулкам — Воротниковскому, Старопименовскому, Дегтярному, заглядываем в освещенные — высокие без переплетов — хрустально-прозрачные венецианские окна. Там совсем другая жизнь — сказочная, может быть, даже волшебная. Лепные потолки, люстры, и в глубине комнат — другие комнаты. Иногда мы останавливаемся и смотрим, как в кино. Летят обрывки разговоров, тренькает рояль. Патриархальные эти переулки напомнят о себе в Нью-Йорке в Бруклин Хайтс, где я теперь живу — все теми же узкими и высокими окнами, все тем же желтовато-розовым, трепетным от скользящих в танце теней, светом.
Наш двор окружен домами и каменным забором. Два старых тополя весной в клейких листочках и в сережках, а к лету тополиного пуха — шелковистого и летучего — видимо-невидимо…
#34, сентябрь 2012 — Юлия Драбкина: Полбеды
 Если скажешь, останусь у ночи
Если скажешь, останусь у ночи
охранять, как собака, порог,
разойдусь по земле, если хочешь,
серой грязью солдатских сапог,
если хочешь, больной и горбатой
буду жить по чужим городам,
назначай справедливую плату —
всё, что есть, не жалея отдам,
побреду по пустыне босая,
стану высохшим руслом реки,
пусть, достойных любя и спасая,
мне никто не протянет руки,
если хочешь, отсутствием чуда
накажи недоверчивый дух,
если надо — молчанием буду:
ни строфы, на бумаге и вслух,
хочешь, буду последним на свете
из рабов, не считая за труд,
только Ты поклянись мне, что дети,
наши дети до нас не умрут…
#35, октябрь 2012 — Геннадий Рождественский: Еврейская сага. Предисловие и послесловие Артура Штильмана
 В Пушкинском «Пире во время чумы» Председатель обращается в своей знаменитой «Песне» к пирующим с вопросом — «Что делать нам? И чем помочь?»
В Пушкинском «Пире во время чумы» Председатель обращается в своей знаменитой «Песне» к пирующим с вопросом — «Что делать нам? И чем помочь?»
Собственно говоря, точно такой же вопрос задал мне Председатель Государственного Комитета по Радиовещанию и Телевидению при Совете министров СССР Сергей Георгиевич Лапин, пригласив в один прекрасный день в свой служебный кабинет на Пятницкой улице в городе Москве. Это произошло вскоре после знаменитой Косыгинской «рекомендации» о взимании с желающих покинуть СССР «лиц еврейской национальности» суммы, затраченной советским государством на их образование, что было тогда воспринято этими «лицами» (при всей тяжести «оброка») своеобразным открытием дверей на пути в Землю Обетованную, сиречь государство — Израиль…
К тому времени из оркестра «выбыли» 7 «лиц еврейской национальности» и мудрый Председатель Госкомитета С.Г.Лапин создал специальную комиссию с целью обнаружения этих «лиц» на заснятых телефильмах и немедленного «обрезания» их изображений, даже, как он выразился — «если они засняты со спины».
Бдительный Председатель, по-видимому, думал, что дело касается только «видеоряда», не сообразив, что «обрезание» богомерзких ликов повлечёт за собой повреждение звуковой дорожки телефильма, после чего его надо было бы считать уничтоженным. Таким образом и было уничтожено около дюжины созданных мною телефильмов…
Должен сказать, что перед отъездом из СССР, каждый из отъезжающих подвергался омерзительной публичной «проработке» на общем собрании оркестра, во время которой все, кому не лень, обливали его потоками грязи, явно получая при этом садистическое удовольствие. Само собой разумеется «задавали тон» этому позорному улюлюканью члены КПСС, тексты выступлений которых были предварительно «одобрены» начальством… К сожалению, я, как руководитель коллектива не мог не присутствовать на этих унизительных «аутодафе», но, слава Богу, благодаря своей чудом сохранившейся беспартийности (эта тема требует отдельного повествования!) каждый раз категорически отказывался выступать и «клеймить» отъезжающих музыкантов, что, мягко говоря, не очень нравилось «руководству» и, как я думаю, и самому Председателю…
#36, ноябрь 2012 — Виктор Каган: е.б.ж.
 Невзрачной рыбки запах огуречный
Невзрачной рыбки запах огуречный
весною петербургской скоротечной
витает в серебристом кураже
и память задыхается счастлúво
прохладным ветром с Финского залива,
куда приду — конечно, е.б.ж.
Б.ж., б.ж. — какие к чёрту если,
когда года покойные воскресли,
как мать, что появляется во сне —
лишь руку протяни… Не тут-то было —
что было, между пальцами уплыло,
а не было — достанется не мне.
Да и не жаль. Я закурю на Стрелке.
Шипит звезда хабариком в тарелке
сырого неба. Бог устал творить.
В Неву вползают ладожские льдины.
Узлы на памяти зудят, но всё едино
не развязать связующую нить.
#37, декабрь 2012 — Игорь Гельбах: Играющий на флейте
 Стены в лечебнице выкрашены в бледно-зеленый цвет, и внутри здания всегда присутствует ощущение легкой прохлады, порой даже сырости и полной ирреальности происходящего, — каждый знает, что такое психиатрическая лечебница. Но сад, великолепный сад окружает недавно отремонтированное здание и обшарпанные вспомогательные строения. Кое-где видны кучи песка и гравия, а жестяное корыто, полное сохнущей извести оставлено под водосточной трубой. Ну а дальше, — кипарисы и пыль на дороге, плотная зелень камфарных деревьев, одиноко стоящее на холме гинкго, и сосны, сосновые иглы под ногами.
Стены в лечебнице выкрашены в бледно-зеленый цвет, и внутри здания всегда присутствует ощущение легкой прохлады, порой даже сырости и полной ирреальности происходящего, — каждый знает, что такое психиатрическая лечебница. Но сад, великолепный сад окружает недавно отремонтированное здание и обшарпанные вспомогательные строения. Кое-где видны кучи песка и гравия, а жестяное корыто, полное сохнущей извести оставлено под водосточной трубой. Ну а дальше, — кипарисы и пыль на дороге, плотная зелень камфарных деревьев, одиноко стоящее на холме гинкго, и сосны, сосновые иглы под ногами.
Иногда мне казалось, — выпустить больных в сад и заставить их жить в тени сосен, под проливными дождями, под редкими пятнами зеленовато-белого снега, — и они выздоровеют…
Их выводят в полдень, — процессия безликих мужчин и нежных юношей, опустившихся старух с неубранными седыми космами и молодых еще женщин в сиреневых платьях. Они бредут по утоптанному кругу, а кто устает, — отходит к скамье у кипариса на краю поляны.
Говорить с Ятой под деревьями трудней, чем в палате, — всегда наступает момент, когда я смотрю на стволы кипарисов, слышу потрескивание веток, она молчит, и я ухожу.
Лет десять назад, когда я познакомился с ней в Ленинграде, там я учился, розоватые пятна на скулах медленно опускались на ее худые щеки, разрезанные крупными губами. Она внимательно смотрела на меня ореховыми глазами, голос у нее был низкий, слова она произносила, закругляя их, и очень темные волосы падали на худенькие плечи. Ходила она очень легко, легко несла вперед свою маленькую грудь и чуть наклоненную голову с темными кудрями.
Наверное, мне не следовало привозить ее сюда, на Юг, но когда-то, в Ленинграде, все было очень хорошо. Тогда она училась, потом стала преподавать музыку как моя мать, но отношения у них сложились совершенно невозможные, а после смерти матери что-то сломилось и в наших отношениях…
#38, январь 2013 — Семен Резник: История с биографией. К 125-летию со дня рождения Н.И.Вавилова
 Под Новый 1963-й год я окончательно порвал с инженерной специальностью, так как был принят в штат редакции серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Мне поручили вести раздел биографий ученых.
Под Новый 1963-й год я окончательно порвал с инженерной специальностью, так как был принят в штат редакции серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Мне поручили вести раздел биографий ученых.
Заведующий серией ЖЗЛ Юрий Николаевич Коротков носился тогда с мыслью поставить издание биографий на научную основу, так, чтобы за обозримый период времени, скажем, за пять лет, можно было дать круг чтения по всей мировой истории…
Должен сразу сказать, что из затеи с таким перспективным планом ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии — задача слишком сложная, чтобы производство книг можно было поставить на поток… Однако, когда я пришел в редакцию, составление перспективного плана шло полным ходом, и мне пришлось включиться в эту работу… Произвол должен был быть сведен к минимуму, поэтому мне приходилось консультироваться по каждому разделу с крупными специалистами, чьи мнения и должны были служить основанием для предпочтения одних имен перед другими.
При этом, естественно, я показывал ученым те разделы плана, которые были близки их специальности. И тут я столкнулся с удивившей меня закономерностью. Почти каждый, кому я показывал «его» раздел плана, непременно спрашивал: почему в списке нет Николая Вавилова?..
#39, январь 2013 — Зоя Мастер: «Нам кажется, что мы ещё успеем…» Интервью с Ниной Воронель
Нина, вы уехали из Советского Союза почти 40 лет назад и позже в своих мемуарах признались в том, что вам было не очень уютно в Израиле 70-х годов. В чём это проявлялось?
 Тогдашний Израиль очень отличался от сегодняшнего. Это была довольно заштатная, несчастная страна. Тель-Авив представлял из себя большую навозную кучу. Знаете, режиссёры любили показывать, как главный герой бежит по улице, а вокруг него свалки, вслед летят бумажные пакеты и мусор.
Тогдашний Израиль очень отличался от сегодняшнего. Это была довольно заштатная, несчастная страна. Тель-Авив представлял из себя большую навозную кучу. Знаете, режиссёры любили показывать, как главный герой бежит по улице, а вокруг него свалки, вслед летят бумажные пакеты и мусор.
То есть, ваши представления о том, как должно быть, не соответствовали тому, что вы увидели.
Да. Например, я пошла в Институт кино, чтобы отдать сценарий. Ищу здание с этой вывеской, а оказывается, что весь Институт располагается в крошечной двухкомнатной квартирке, и там сидят два старичка, которые потом, в кафе, ещё и просят заплатить за их кофе. Кроме того, я не знала языка, а это решающий фактор для адаптации. В общем, потребовалось время, чтобы найти себя. И это было основной причиной ощущения неуюта.
Сходно ли было это ощущение тому, которое в 60-е годы вы испытывали, приехав их Харькова в Москву? Я спрашиваю об этом, потому что в ваших мемуарах вы часто называете себя провинциалкой.
Тогда, в юности, приехав в столицу и познакомившись с москвичами, я постоянно ощущала их превосходство.
Почему? Вы что, носили туфли с белыми носочками, задавали нетактичные вопросы, раскрывали душу первому встречному? В чём проявлялась ваша провинциальность?
В харьковском образе мысли. Бен Сарнов часто говорил, что мы, провинциалы, — десантники, которые всё разрушают…
#40, март 2013 — Владимир Янкелевич: Осколки (2, 3, 4, 5, 6)
 Я как-то неожиданно для себя стал всё чаще возвращаться в прошедшие годы. Вернее не я стал возвращаться, а память вдруг, как-то сама по себе, подбрасывает совершенно неожиданно казалось уже давным-давно забытое. «Но когда по ночам бессонница…», а она, к сожалению, стала постоянной спутницей, «мне на память приходит» не что-то цельное, а так, осколки прошлого. Иногда — это странный сон из далекого детства, а иногда просто мысли убегают в прошлое, не то, чтобы с сожалением — эх, не так нужно было сделать — а вроде смотришь фильм о собственной жизни…
Я как-то неожиданно для себя стал всё чаще возвращаться в прошедшие годы. Вернее не я стал возвращаться, а память вдруг, как-то сама по себе, подбрасывает совершенно неожиданно казалось уже давным-давно забытое. «Но когда по ночам бессонница…», а она, к сожалению, стала постоянной спутницей, «мне на память приходит» не что-то цельное, а так, осколки прошлого. Иногда — это странный сон из далекого детства, а иногда просто мысли убегают в прошлое, не то, чтобы с сожалением — эх, не так нужно было сделать — а вроде смотришь фильм о собственной жизни…
Самое раннее воспоминание относится, как мне кажется, к возрасту лет четырех. Мне тогда прочитали небольшую статью «Девочка, которую продали». Смысл её был такой, что в мире, где не подарили детям «счастливое детство» родители были вынуждены продать свою дочь. — Как это продали?! Разве детей продают?! — Впечатление было очень сильное. Настолько, что я тогда многократно видел повторяющийся сон, в котором продали меня. Уже продали, вот-вот должны прийти покупатели, и мама привязывает меня во дворе за руку к двери… Покупатели во сне не приходили, но я стоял и плакал, привязанный к двери в ожидании покупателя… Почему это вспоминается сейчас? Кто знает…
Жили мы в старом одноэтажном бакинском доме, где все квартиры выходили во внутренний квадратный двор. Он был просто огромным, целый мир, где мы играли в прятки, а когда стали постарше, то в настольный теннис. Спустя лет сорок я там побывал. До чего же он уменьшился, наш огромный двор. Где тут можно было прятаться? А тогда в этом дворе бурлила наша жизнь, кипучая, как у всех детей.
Во дворе у дверей квартир стояли деревянные ящики, лари, на которых спали в жаркие летние ночи. В противоположном углу двора храпел Андроник, мне казалось, что его храп слышен примерно улицы на три. Куда сегодня делась его семья, когда в Баку уже не осталось армян, неизвестно, но известно, что сосед, Славка Погосов, продал свою квартиру и пытался уехать. Его ограбили, убили и выбросили из поезда.
Но это было намного позже, а пока жилось в Баку очень неплохо…
#41, апрель 2013 — Елена Минкина: Что в имени тебе моем. Глава из нового романа «Эффект Ребиндера» (еще две главы)
 Да, имя ему досталось непростое, специально для насмешников — Матвей Леонардович Шапиров. В детдоме ребята дразнили Мотей и даже Марусей, в университете — Аполлонычем. Попробуй поспорить! И фамилия непонятного назначения — то ли русская, то ли азербайджанская. В результате оказалось, что еврейская! Еще в деревенской школе последнюю букву приписали зачем-то. Перед отправкой в детдом. Но букву Матвей потом убрал, конечно.
Да, имя ему досталось непростое, специально для насмешников — Матвей Леонардович Шапиров. В детдоме ребята дразнили Мотей и даже Марусей, в университете — Аполлонычем. Попробуй поспорить! И фамилия непонятного назначения — то ли русская, то ли азербайджанская. В результате оказалось, что еврейская! Еще в деревенской школе последнюю букву приписали зачем-то. Перед отправкой в детдом. Но букву Матвей потом убрал, конечно.
Маму он хорошо помнил, особенно в последний год их общей жизни, когда сидели в обнимку вечерами в чужой сырой избе, и она рассказывала обо всем на свете, все торопилась рассказать, все спешила, словно знала свой срок, свой час назначенный. А он, восьмилетний, рано повзрослевший пацан с непривычными среди деревенских темными тугими вихрами, слушал и слушал. Про голодное несчастливое детство — как безобразничал и буянил ее отец, Васька Косой. Да, так и звали до самой смерти, не Василий Митрофанович, а только Васька, или еще Васька-пьяница. И ее в детстве звали не иначе как Васькина дочка. Да, так и бедствовали, жили подачками да стиркой, даже своей скотины не смогли завести. Потом в селе появились незнакомые люди в городской одежде, революционеры. Маленькая Надька их хорошо запомнила, потому что в первый раз тогда получила настоящую конфету, большую конфету в золотой бумажке. Отец, было, подружился с чужаками, шумел, бил себя в грудь, водил по зажиточным дворам показать, где спрятано зерно. Но ни к чему хорошему эта дружба не привела — городские забрали зерно и уехали, а отца глухой осенней ночью прибили свои же односельчане. Правда, только слухи ходили, что свои, никто убийцу особенно не искал. А приезжие милиционеры написали, что Косой по пьянке помер –свалился в овраг, да и пробил голову об камни.
Матвей не все понимал — какое зерно, почему убили, но молчал, не спрашивал. А мать все бормотала скороговоркой, как ненужное и давно забытое — да, бедствовали с маменькой, да, работали от темна до темна по чужим дворам. Потом и маменька померла, и сама Надька, наверное, сгинула бы в одночасье, если б не началось на селе новое дело — коллективные хозяйства. Колхозы значит. Такое великое новое дело, чтобы и скотина, и посевы стали общие, а народ трудился коллективно и урожай делил поровну.
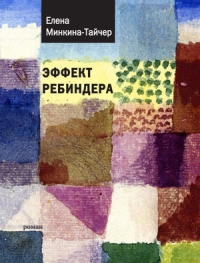 Вот отсюда начиналось интересное! Матвей уже знал, что сейчас мама расскажет про его отца.
Вот отсюда начиналось интересное! Матвей уже знал, что сейчас мама расскажет про его отца.
Колхозы, конечно, не всем глянулись, крепкие хозяева кричали, что ничего сдавать не станут и никого знать не знают. И тогда появился на селе Комиссар, председатель колхоза! Это уже потом узнала Надька такое слово — комиссар, а тогда только глазела на решительного человека с немыслимо прекрасным именем Леонард и нездешней фамилией Шапиро. Чем-то чудесным веяло от его фамилии — то ли воздушными шарами, то ли цирком Шапито – Надька так и не успела придумать, потому что начались совсем сказочные дела! Не прошло и недели, как именно ей, девчонке и недоучке, строгий немолодой (наверное, за тридцать перевалило!) комиссар предложил участвовать в большом государственном деле — борьбе с кулаками и врагами социализма! Потому что сам великий Сталин на всю страну объявил – колхозы должны опираться на бедноту!
Так и началась история маминой любви. Не ходила, а летала по родной деревне, парила, как птица! Хоть и уставала с непривычки от заседаний и незнакомых слов, хоть и томилась над списками кулаков – все ж свои знакомые люди, но не хотелось ни думать, ни горевать! По ночам обнимала она измученного от непривычной колхозной работы поседевшего Леонарда, плакала над его стертыми в кровь руками, а волна восторга, незнакомого, немыслимого счастья и восторга уже несла ее прочь от родных берегов, от одиночества и неприкаянности, в другую, прекрасную жизнь!
Нет, она не испугалась, даже когда живот полез на глаза. Не обидел ее комиссар Леонард, не опозорил пред соседями, а на глазах всего мира повел расписываться в сельсовет! Так и превратилась сирота и нищенка Надька Косая в Надежду Васильевну Шапиро, законную жену самого председателя колхоза и мать маленького богатыря Матвейки…
#42, май 2013 — Элиэзер Рабинович: Южная Африка: краткая история до 1948 года
 В марте 2012 г. мы с женой посетили Южную Африку. В аэропорту Кейптауна группу из 26 североамериканцев встретил местный директор поездки Рон МакГрегор, 64 лет, оказавшийся наиболее блестящим гидом, которого мы когда-либо встречали. Профессорский вид, профессорское знание страны, автор энциклопедической книги, которую, купив, я буду широко использовать; кроме того, узнав о статье, он предложил неограниченно обращаться к нему с вопросами по электронной почте. Рон был в молодости либералом и, в общем, им остался с той поправкой, что возраст сильно сдвигает либерализм в консервативную сторону. Он сказал, что его цель — не просто показать нам природу, но дать и почувствовать, чем живёт страна, и эта задача ему блестяще удалась.
В марте 2012 г. мы с женой посетили Южную Африку. В аэропорту Кейптауна группу из 26 североамериканцев встретил местный директор поездки Рон МакГрегор, 64 лет, оказавшийся наиболее блестящим гидом, которого мы когда-либо встречали. Профессорский вид, профессорское знание страны, автор энциклопедической книги, которую, купив, я буду широко использовать; кроме того, узнав о статье, он предложил неограниченно обращаться к нему с вопросами по электронной почте. Рон был в молодости либералом и, в общем, им остался с той поправкой, что возраст сильно сдвигает либерализм в консервативную сторону. Он сказал, что его цель — не просто показать нам природу, но дать и почувствовать, чем живёт страна, и эта задача ему блестяще удалась.
Я начал писать статью как рассказ о поездке, но оказалось, что это трудно сделать, не обращаясь каждую минуту к истории. Я понял, что как я сам почти ничего не знал об истории страны, так, по-видимому, не знает и большинство моих читателей. Путешествие обычно излагается географически, горизонтально, тогда как история носит вертикальный характер, и глубоко два подхода совместить трудно. Поэтому я решил сначала написать краткое изложение истории и людей в ней, а потом отдельно описать путешествие. История эта будет, в основном, историей белого человека в Южной Африке до 1948 г…
#43, июнь 2013 — Евгений Брейдо: Город
 Сколько себя помнил, он всегда любил море. С детства завораживали картинки с кораблями, мачтами, дымком от пушечных залпов, голубыми волнами. Волны почему-то всегда рисуют голубыми или синими с белой пеной, хотя в жизни он никогда такого не видел — они или светло-бирюзовые, почти зеленые, или серые, черные. Он любил море всякое, в любую погоду — и тихое, ласковое, и громовое, ревущее, вроде как он на своих бояр, чувствовал связь, родство с морем, может, предощущал, как знать, что и погибнуть ему придется от моря. Ох, на минутку бы увидеть его сейчас, подышать соленым ветром, легче бы стало. Тоска, суша.
Сколько себя помнил, он всегда любил море. С детства завораживали картинки с кораблями, мачтами, дымком от пушечных залпов, голубыми волнами. Волны почему-то всегда рисуют голубыми или синими с белой пеной, хотя в жизни он никогда такого не видел — они или светло-бирюзовые, почти зеленые, или серые, черные. Он любил море всякое, в любую погоду — и тихое, ласковое, и громовое, ревущее, вроде как он на своих бояр, чувствовал связь, родство с морем, может, предощущал, как знать, что и погибнуть ему придется от моря. Ох, на минутку бы увидеть его сейчас, подышать соленым ветром, легче бы стало. Тоска, суша.
Вскочил, сделал два шага по комнате, уперся в стену, отошел, резко сел на кровать, привалившись спиной к высоким подушкам, затянулся трубкой. У двери стоял навытяжку гонец, драгунский капитан в залепленном грязью мундире. Стараясь унять дрожь в коленях, деревянным голосом односложно отвечал на вопросы о нарвском разгроме. Он нагнал царя в Новгороде, ни жив, ни мертв вошел в дом, который ему указали, жалея, что уцелел — царский гнев страшнее шведской пули.
Петр, уставившись на него немигающим взглядом, пыхтя трубкой, неожиданно сказал: «За битого трех небитых дают. Я воевать начинаю только». И, жестом подтверждая, велел капитану — «Налей, выпей с дороги». Тот подошел к столу на негнущихся ногах, налил водки, залпом выпил, не закусывая…
#44, июль 2013 — Владимир Порудоминский: “Мы теряем лета наши, как звук…”
 …Абсолютные цифры пугают, конечно: семьдесят, восемьдесят, ну, девяносто, а дальше — что?.. Но услужливый ум ловко перекраивает представления о возрасте (Корней Иванович Чуковский сказал на чьем-то юбилее: семьдесят лет — прекрасный возраст, но понимаешь это в восемьдесят), утешает сравнениями (Н. в восемьдесят пять еще такое выделывает). Нам, наконец, дарованы добрые минуты — забывать. Бертольд Брехт в стихотворении „Похвала забывчивости“ пишет: „Слабость памяти дарует людям силу“. Наступление (становление) старости осознается с цифрами, но цифры всё же показатель возраста, а не старости. Суть старости — иное наступление (боевые действия: ты в окружении, кольцо сжимается). Старость — это наступление ограничений. Ограничивается время, тебе всякий раз отпускаемое, пространство, которое ты еще способен одолеть, ограничиваются твои желания, возможности, общения, планы, даже разнообразие и количество еды в твоей тарелке… Наступление продолжается, ты теряешь позицию за позицией, но, пока „жить упорная способность“ (по слову поэта) тобой не утрачена, ты, даже уступая раздражению, не посмеешь сказать всерьез о наступлении вражеском: старость, сказал кто-то (может быть, тоже поэт) — единственный способ жить долго. В конечном счете, жизнь в старости, как и творчество, — энергия заблуждения…
…Абсолютные цифры пугают, конечно: семьдесят, восемьдесят, ну, девяносто, а дальше — что?.. Но услужливый ум ловко перекраивает представления о возрасте (Корней Иванович Чуковский сказал на чьем-то юбилее: семьдесят лет — прекрасный возраст, но понимаешь это в восемьдесят), утешает сравнениями (Н. в восемьдесят пять еще такое выделывает). Нам, наконец, дарованы добрые минуты — забывать. Бертольд Брехт в стихотворении „Похвала забывчивости“ пишет: „Слабость памяти дарует людям силу“. Наступление (становление) старости осознается с цифрами, но цифры всё же показатель возраста, а не старости. Суть старости — иное наступление (боевые действия: ты в окружении, кольцо сжимается). Старость — это наступление ограничений. Ограничивается время, тебе всякий раз отпускаемое, пространство, которое ты еще способен одолеть, ограничиваются твои желания, возможности, общения, планы, даже разнообразие и количество еды в твоей тарелке… Наступление продолжается, ты теряешь позицию за позицией, но, пока „жить упорная способность“ (по слову поэта) тобой не утрачена, ты, даже уступая раздражению, не посмеешь сказать всерьез о наступлении вражеском: старость, сказал кто-то (может быть, тоже поэт) — единственный способ жить долго. В конечном счете, жизнь в старости, как и творчество, — энергия заблуждения…
#45, август 2013 — Бахыт Кенжеев: Когда б умел я… Стихи разных лет
 Пролетала над садом, узбекская ласточка,
Пролетала над садом, узбекская ласточка,
Выскользала из пальцев, вишневая косточка,
Хрустнула, словно майский жук под ногой
у подвыпившего. И не будет другой.
Или будет, но по-иному, к другому ластиться,
провозвестница, золушка в джутовом платьице,
цыпки на голенях, веснушки на круглых щеках,
косички резинками черными схвачены, ах,
ревность моя, зависть, ведь клялся, что верую
в то да сё, что успокоюсь, что сам стану серою
мышкою нелетучей, но не нашлось химического огня,
который успел бы под старость согреть меня.
Да, товарищ, плывут по Гангу плоты горящие,
За кремлевскими звездами рушатся настоящие,
Пусть и мне остается последнее, что под солнцем есть –
петь, смеяться, всхлипывать. Небольшая честь,
но единственная. Агнец в огне, Илия,
тёзка мой, расскажи, сумею ли жить в могиле я?
Столько десятилетий любви, тления, и труда
пропадут ли? Должно быть, нет, а скорее да.
#46, сентябрь-октябрь 2013 — Виктор Каган: Музыка старости
 16-летний Пушкин написал о Карамзине: «В комнату вошел старик лет 30». Это можно было бы списать на юношеское восприятие возраста. Сказал же мне 15-летний сын в мои 35: «Батя, когда я буду такой старый, как ты, мне уже тоже ничего не нужно будет». Но вот слова Ю.Тынянова: «Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года – возраст угасания». Сегодня вполне серьёзно обсуждают, не заканчивается ли юношеский возраст лишь к 30-ти годам. Повернётся ли у кого-нибудь язык сказать о 42-летней госпоже N – президенте банка, давшего кредит под хороший процент: «Старуха»? Внешние и внутренние границы старости на карте жизни разительно изменились и продолжают изменяться…
16-летний Пушкин написал о Карамзине: «В комнату вошел старик лет 30». Это можно было бы списать на юношеское восприятие возраста. Сказал же мне 15-летний сын в мои 35: «Батя, когда я буду такой старый, как ты, мне уже тоже ничего не нужно будет». Но вот слова Ю.Тынянова: «Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года – возраст угасания». Сегодня вполне серьёзно обсуждают, не заканчивается ли юношеский возраст лишь к 30-ти годам. Повернётся ли у кого-нибудь язык сказать о 42-летней госпоже N – президенте банка, давшего кредит под хороший процент: «Старуха»? Внешние и внутренние границы старости на карте жизни разительно изменились и продолжают изменяться…
Дать единое определение старости, вывести какую-то её общую формулу по существу невозможно.
Психологическая старость не совпадает с остальными её гранями. «Трагедия не в том, что мы стареем, а в том, что остаёмся молодыми» – заметил Виктор Шкловский. «Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!» – вторит ему Фаина Раневская и добавляет: «Старость – это просто свинство. Я считаю, что это невежество бога, когда он позволяет доживать до старости»…
#46, сентябрь-октябрь 2013 — Александр Избицер: Мимолётности и Сарказмы Натана Перельмана
 Нередко первая же моя беседа с тем или иным музыкантом вдруг озаряется, словно вспышкой, произнесённым моим собеседником афоризмом из книжечки Н.Е. Перельмана «В классе рояля» – на что с моей стороны незамедлительно следует другая цитата, из того же источника. К примеру:
Нередко первая же моя беседа с тем или иным музыкантом вдруг озаряется, словно вспышкой, произнесённым моим собеседником афоризмом из книжечки Н.Е. Перельмана «В классе рояля» – на что с моей стороны незамедлительно следует другая цитата, из того же источника. К примеру:
«В наш век развелось так много феноменальных пианистов, что я истосковался по хорошим».
«В спорах рождается не только истина, но и враждебность. Ограничимся первым».
«Титул ищущий следует присваивать находящему».
«Иногда красивый звук бывает так же неуместен в музыке, как был бы неуместен красавец-мужчина без грима в роли Квазимодо».
И так далее, и в том же духе.
Язык таких диалогов становится общим, вызывая взаимную симпатию, иногда переходящую в приятельство и даже дружбу.
«В классе рояля» хорошо знакома и любима многими, даже совсем юными музыкантами, и я издавна пришёл к заключению, что её аудитория не поддаётся даже приблизительному исчислению…
#47, ноябрь 2013 — Александр Левинтов: Судьбы (окончание)
 — Иванова! С матрасом в служебку!
— Иванова! С матрасом в служебку!
Опять меня Аннаванна застукала! Маринка мгновенно ныряет к себе в койку под одеяло, а я аккуратно и плотно-плотно скатываю свою постель с полосатым матрасом в разводьях въевшейся намертво мочи и тащусь в служебку. После отбоя дежурные воспитатели нашего интерната не то от скуки, не то от рвения, не то просто из лютой взаимной ненависти к нам ходят на цыпочках от двери к двери, приставляют стакан, чтобы лучше было слышно, и подслушивают, кто с кем разговаривает. Даже если лежать в обнимку и шептать на ухо, все равно из-за стакана они узнают нас по голосам и никогда не ошибаются. Особенно Аннаванна.
Она уже сидит у себя, паучиха, кипятит чай, вяжет отложенное на обход. В ее комнате нестерпимо светло, особенно после нашей спальни.
Я встаю между дверным проемом и стеной с окном, держа подмышкой скатанную постель. Это наказание. Я стою так полчаса, час, больше, столько, сколько ее душеньке будет угодно, не имея права переложить матрас в другую руку. Однажды я не выдержала и поставила матрас на голову — Аннаванна влепила мне такую оплеуху, что у меня звезды из глаз полетели. Очень хочется спать, от перекоса все тело зудит и стонет, и я чувствую, как трещит и гнется мой позвоночник. Матрас справа, стена слева. Многие, забывшись, прислоняются к ней. Вдоль стены идет рифленая раскаленная батарея. Плакать или потом идти к врачу с ожогом нельзя.
Аннаванна откладывает вязанье и берется за книгу. Наконец она зевает: “Иди, Иванова!”
Я плетусь по гулкому коридору в нашу спальню и бухаюсь в сон, сжав кулаки и стиснув зубы.
В интернат я попала, потому что мне было уже восемь лет, когда лишили родительских прав папу и маму. На суде все решала стерва из РУНО. Наши папа и мама болели алкоголизмом. На суде они плакали, особенно папа, и просили не лишать их детей. Мама глухо останавливала его: “Сережа, это без толку”. Мелких разбросали по детдомам, меня — в интернат. Бумажку с адресами этих детдомов я зажала в кулак, и никто не смог бы отнять, только, если б отпилили руку. Когда прочитали решение, мама крикнула мне: “Светка! Меньших береги, не бросай их!”
Папа умер первым. Его сбила машина. А через два месяца мама закрылась на кухне, включила все конфорки и повесилась. Никто и никогда не узнает, какие они были хорошие и какая тяжелая жизнь им досталась…
#48, декабрь 2013 — Мина Полянская: Пролитые чернила. Фридрих Горенштейн
 В конце 1996 года Горенштейн задумал роман-детектив о браконьерской добыче и контрабанде черной осетровой икры в устье Волги. Он полагал, что там действуют мощные мафиозные структуры и не сомневался, что район Астрахани — Клондайк не только для криминального элемента, но и для «криминального» писателя, автора детективов. (Писателей-детективистов, которых появилось огромное множество, Фридрих тоже считал мафиозной структурой.) «Вот увидите, — говорил он, — скоро там появится Маринина!» Горенштейн говорил: «Вы знаете, как добывается эта икра? Браконьеры вылавливают перед нерестом этих осетров, вспарывают им живот, достают икру, а рыбу выкидывают». Надо сказать, что даже просто произнести эти слова о вспарывании живота у осетра ему было мучительно трудно. Фридрих не читал книг и не смотрел фильмов, в которых убивают животных. Животных он любил всех без исключения, даже лягушек. «Давно я не видел лягушек», — говорил он нам с грустью во время поездок за город на нашем стареньком «фольксвагене». Мы даже как-то искали их, но не нашли.Горенштейн не стал читать «Моби Дика» Мелвилла только потому, что там «травят» кита. И как я ни уверяла его, что в книге кит вовсе и не кит, а нечто совсем другое, кит-оборотень, белый призрак и, возможно, само воплощение зла или карающая рука в оболочке кита, он не согласился с моей трактовкой романа, упрямо повторяя: «Там травят кита, а если Мелвилл подразумевал не кита, а некую другую силу, то нужно было придумать другую «оболочку», другой символ». «Но ведь в таком случае вы пропустите великий роман, он пройдет мимо вас», — настаивала я. Он ответил: «Иногда полезно чего-нибудь не прочитать и не знать! Невежество в сочинительстве может быть даже полезным, если оно озарено яркой игрой выдумки». После того, как умер любимый кот Крис, Горенштейн некоторое время вообще ничего не писал…
В конце 1996 года Горенштейн задумал роман-детектив о браконьерской добыче и контрабанде черной осетровой икры в устье Волги. Он полагал, что там действуют мощные мафиозные структуры и не сомневался, что район Астрахани — Клондайк не только для криминального элемента, но и для «криминального» писателя, автора детективов. (Писателей-детективистов, которых появилось огромное множество, Фридрих тоже считал мафиозной структурой.) «Вот увидите, — говорил он, — скоро там появится Маринина!» Горенштейн говорил: «Вы знаете, как добывается эта икра? Браконьеры вылавливают перед нерестом этих осетров, вспарывают им живот, достают икру, а рыбу выкидывают». Надо сказать, что даже просто произнести эти слова о вспарывании живота у осетра ему было мучительно трудно. Фридрих не читал книг и не смотрел фильмов, в которых убивают животных. Животных он любил всех без исключения, даже лягушек. «Давно я не видел лягушек», — говорил он нам с грустью во время поездок за город на нашем стареньком «фольксвагене». Мы даже как-то искали их, но не нашли.Горенштейн не стал читать «Моби Дика» Мелвилла только потому, что там «травят» кита. И как я ни уверяла его, что в книге кит вовсе и не кит, а нечто совсем другое, кит-оборотень, белый призрак и, возможно, само воплощение зла или карающая рука в оболочке кита, он не согласился с моей трактовкой романа, упрямо повторяя: «Там травят кита, а если Мелвилл подразумевал не кита, а некую другую силу, то нужно было придумать другую «оболочку», другой символ». «Но ведь в таком случае вы пропустите великий роман, он пройдет мимо вас», — настаивала я. Он ответил: «Иногда полезно чего-нибудь не прочитать и не знать! Невежество в сочинительстве может быть даже полезным, если оно озарено яркой игрой выдумки». После того, как умер любимый кот Крис, Горенштейн некоторое время вообще ничего не писал…
#49, январь 2014 — Игорь Юдович: Протестантский век. Послесловие Борисa Дынина

…Американская революция во многом была событием беспрецедентным: возможно, единственный раз в истории не подтвердился постулат Дантона о «революции, пожирающей своих детей». Чем дальше мы уходим от революционного времени конца 18 века, тем больше нам свойственно ее причины и успех объяснять уникальными политическими и социально-экономическими обстоятельствами, существованием аномально большого количества достойных людей, известных под именем «отцы-основатели», военным везением, ошибками англичан и прочими безусловно значительными факторами. При этом забывать о, возможно, самом главном факторе — религиозном.
Дело в том, что религиозность американского предреволюционного общества была тоже беспрецедентной.
По причинам, которые я объясню ниже, объяснение этого религиозного феномена лежит в истории Новой Англии, северо-восточного региона Соединенных Штатов, который включает сегодня шесть штатов: Массачусетс, Мен, Коннектикут, Вермонт, Род-Айлэнд и Нью-Гемпшир. Общеизвестно, что первые европейские переселенцы в колонии Новой Англии, эмигранты поколения «Mayflower» (1620-40-е), были религиозными изгоями — пуританами. Возможно, многие помнят ключевую фразу Токвиля в его до сих пор непревзойденной «Демократии в Америке» (1830-40-е): «Каждая религия связана с определенными политическими убеждениями в силу своего сходства с ними». Так кто же такие пуритане и какие у них были религиозные и политические убеждения?..
 …Между пилигримами и творцами Американской конституции пролегли 100 с лишним лет. За это время религиозная неистовость трансформировалась в новые формы организации общественной жизни и в религиозную терпимость, о чем так хорошо рассказал Игорь. Для меня нет сомнения, что это случилось благодаря духу протестантизма, который даже при крайностях кальвинизма помнил свое начало в борьбе с авторитаризмом католической церкви, и особенно благодаря духу пуритан, восставших против авторитета англиканской церкви…
…Между пилигримами и творцами Американской конституции пролегли 100 с лишним лет. За это время религиозная неистовость трансформировалась в новые формы организации общественной жизни и в религиозную терпимость, о чем так хорошо рассказал Игорь. Для меня нет сомнения, что это случилось благодаря духу протестантизма, который даже при крайностях кальвинизма помнил свое начало в борьбе с авторитаризмом католической церкви, и особенно благодаря духу пуритан, восставших против авторитета англиканской церкви…
«Религию, которая в Соединенных Штатах никогда не вмешивалась непосредственно в управление обществом, следует считать первым политическим институтом этой страны». (Токвиль). Соглашаясь вместе с Игорем со словами Токвиля, я задаюсь вопросом о фундаментальности именно пуританской морали и заодно об исторической однозначности протестантской морали в целом в итоговом развитии американского общества в последующие 200 лет. Вопрос вызван ощущением далеко не монолитности этой морали в рамках самого протестантизма, что открыло дорогу влиянию на становление американского общества других мировоззрений, религиозных и секулярных. Гений отцов Америки проявился в создании секулярного контрапункта религии в Конституции, причем таким образом, что религиозность (пуританская или нет) не выдавливалась из жизни народа, могла сохранять свой динамизм в разнообразии и, со своей стороны, оказываться поддержкой Конституции. Обе составляющие стали основой морали и образа жизни народа.
Учтем, дух протестантизма (если и был он чем-то единым в глазах, скажем, католиков) тоже не чуждался авторитаризма, что и вызвало Первое Великое Пробуждение уже в 1730-40-е годы. Америка не теряла религиозность, но ее протестантские основы обнаруживали тенденцию к кризисам, что опять проявилось во Втором Великом Пробуждении начала 19 столетия и далее на протяжении всей истории Америки…
#50, февраль 2014 — Михаил Носоновский: Спор Ньютона с Лейбницем и оккультные корни науки
 Поводом к написанию этой статьи стала реплика проф. Эдуарда Бормашенко в его замечательной и стимулирующей размышления работе «Пролегомены к философии естествознания«. Бормашенко пишет: «Что мне всегда было в механике Ньютона непонятным – это концепция вечного, абсолютного простирающегося во все стороны оцифрованного пространства-времени. Верующему христианину, полагавшему, что мир сотворен, эта концепция должна быть очень неудобна. Но ньютоновой механике требовался единый фон, и Ньютон пожертвовал логической последовательностью во имя общности картины миры.»
Поводом к написанию этой статьи стала реплика проф. Эдуарда Бормашенко в его замечательной и стимулирующей размышления работе «Пролегомены к философии естествознания«. Бормашенко пишет: «Что мне всегда было в механике Ньютона непонятным – это концепция вечного, абсолютного простирающегося во все стороны оцифрованного пространства-времени. Верующему христианину, полагавшему, что мир сотворен, эта концепция должна быть очень неудобна. Но ньютоновой механике требовался единый фон, и Ньютон пожертвовал логической последовательностью во имя общности картины миры.»
Я заинтересовался этим вопросом, который, как ни странно, не лежит на поверхности обширной популярной литературы о взглядах Ньютона и, как оказалось, связан с рядом очень интересных аспектов ньютоновской философии. Прежде всего, Ньютон полагал пространство и время божественными эманациями… Ньютон был последовательным критиком как еврейской каббалы и христианского гностицизма, так и платонизма философов. Именно из-за их приверженности идее эманации, которую он полагал коррупцией изначальной идеи божественного проявления…
Ньютон не вписывается ни в какую схему. Будучи убежденным идейным противником платонизма и эманации, он без видимых затруднений прибегает к этой идее, когда у него возникает необходимость использовать абсолютное пространство и время. Чтобы лучше разобраться в истоках этого противоречия, нам придется пристольнее взглянуть на историю становления современной науки в XVII веке…


Дорогие Редакторы, спасибо! Воспринял как подарок, в этом году у меня личный юбилей, не такой «круглый», но все-таки…)!
Прочитал Дайджест-50 и обнаружил, что моя статья в приведена в №22!
Я не литератор, а посему рад, что попал в такой почетный список, пусть даже, как автор-составитель, (уже почти 85 борюсь с тщеславием, но никак…).
И, конечно, очень рад за Ренату Муху – еще один камешек-память моему люби-мому автору и неповторимой женщине.
Кстати, на основе этой и других двух моих статей, опубликованных в журнале
«7 искусств», в Иерусалиме небольшим тиражом вышла в свет книга «Муха боль-шого полета» (издательство «Достояние» 2014 г.. 192 стр. Автор составитель В. Слуцкий, редакторы А. Кучерский, И. Рувинская).
Процитирую Е.Евтушенко:
Какие девушки в Париже, черт возьми !
И черт — он с удовольствием их взял бы …
Ну ладно — не в Париже , а «у Берковича»… И по большей части все-таки не девушки — за рядом блестящих исключений вроде Т.Л. Разумовской — а авторы …
Но с точки зрения разнообразия и уровня — поэт прав, такому набору позавидовал бы кто угодно 🙂
Я только сейчас понял, сколько замечательных публикаций я пропустил. Спасибо!
Дорогой Владимир, я рад за тебя и…за себя, что твои «Осколки» выбраны как лучшая публикация в № 40 март 2003 в сегодняшнем Дайджесте «Семь искусств».
Рад и за себя, ибо с большим интересом и з у ч а л материал и подбрасывал тебе нелегкие вопросы, на которые ты оперативно, как и наш шеф, отвечал. Спасибо.
Дорогой Евгений, этот итог Вашего очередного изобретения по расширению «Заметок» —
очередной изумруд в Вашей короне привлечения авторов и читателей со всего света к развитию еврейского самосознания.
Я перед Вашим трудолюбием и его итогами преклонялся всегда.
Сегодня мне писать красивые слова особенно легко и не звучит подхалимством постоянного автора перед Главным редактором, ибо итоги подведены и дальнейшие публикации не предусмотрены.
Мороз по коже. И это только по одной статье из номера и всего за пять лет!
Большое видится на расстоянии, даже на таком небольшом, как пять лет.