![]()
Всего же в местечке были четыре синагоги, два раввина — старый и молодой, несколько резников… Большая синагога предназначалась для избранных: знатоков Талмуда, хасидов и просто богатых евреев. Среди них встречались колоритные личности.
Ткань жизни
(воспоминания российского еврея)
Самуил Ортенберг
Перевод с идиш Бориса Гершмана и Фреда Ортенберга
Подготовка текста и предисловие Фреда Ортенберга
Лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зингер о своём романе «В СУДЕ У МОЕГО ОТЦА» написал, что его книга является «попыткой соединения двух жанров — мемуаров и беллетристики». Позволю себе высказать подобное же суждение о предлагаемых читателю воспоминаниях моего отца Самуила Ортенберга «ТКАНЬ ЖИЗНИ». Уж очень схожи между собой и подача материала, и описываемые в этих книгах события. Обе книги автобиографичны, действие в них происходит в начале ХХ века, примерно в одно и то же время. Жизнь еврейского народа предстаёт преломлённой через сознание главного героя — ребёнка в начале повествования и юноши — в конце книг. Язык оригинала книг — идиш, отрывки из воспоминаний печатались до выхода книг в газетах и, наконец, самое главное, изображаемые в этих произведениях «среда и образ жизни более не существуют и являются неповторимыми». Навсегда исчезли и польское еврейское захолустье, и украинское местечко и еврейское предместье. Повествование в книге «ТКАНЬ ЖИЗНИ» ведётся в документальной манере в хронологической последовательности, но многие фрагменты воспоминаний, так же как разделы романа И. Б. Зингера, представляют собой самостоятельные рассказы, написанные ярко и зримо с несомненным мастерством. Иными словами, у вас в руках произведение художественной литературы, повествование в котором ведётся от имени автора — основного участника описываемых событий.
Отец приступил к работе над воспоминаниями незадолго до выхода на пенсию, и завершил написание рукописи в 1962 году. Воспоминания охватывают двадцатилетний период его жизни (1910-1930 годы) и состоят из двух частей. В первой части действие происходит в местечке Погребище, где прошло его детство. Вначале детально показана жизнь еврейской общины в царской, досоветской России, а затем представлены драматические события, произошедшие в местечке во время мировой войны, революции, гражданской войны, погромов. Во второй части описаны юношеские годы, которые он прожил в таких известных городах Украины, как Винница, Киев, Одесса. Эта часть посвящена годам учёбы, службы в армии, началу педагогической и литературной деятельности.
По ходу повествования автор невольно погружается в историю, во времена, предшествующие описываемым. В тоже время он очень часто забегает вперед, описывая события, происшедшие с его персонажами уже после 1930 года. Такое проникновение наскоками в годы, которые теперь принято называть «годами произвола», позволяет ему избежать подробного рассказа об ужасах того проклятого времени, о планомерном уничтожении еврейской культуры и готовящемся истреблении народа. Когда писалась книга, подобная оценка государственной политики в отношении евреев ещё не допускалась и преследовалась. Поэтому отец ограничивается лишь констатацией смерти того или иного сподвижника, оставляя без комментариев сами обстоятельства их гибели.
Как я уже сказал, воспоминания представляют собой россыпь отдельных новелл, следующих одна за другой в соответствии с жизненным путём автора. Читая эти рассказы, замечаешь то там, то здесь стремление осмыслить частные истории с позиций более высоких, с точки зрения общих для еврейского народа целей. В таких обобщающих авторских отступлениях для него являются чрезвычайно важными:
- Еврейский мир и разрушительные тенденции
В воспоминаниях изображены революция, гражданская война, погромы, приведшие местечковый уклад к гибели. Население большинства еврейских местечек многократно сокращалось и исчезало. Автор с ужасом наблюдает картину упадка и запустения. Потрясает трагическое описание исхода из Погребищ тех немногих евреев, которым удалось выжить. Добавлю от себя, что после исхода дальнейшие исторические события привели к полному исчезновению в местечке носителей еврейского уклада жизни. В результате борьбы с религией, коллективизации, индустриализации, голода и немецкой оккупации евреев в местечке практически не осталось. По неофициальной статистике, которую я нашёл в Интернете, в Погребище сейчас, если и проживают евреи, то человек пять, не больше. Наблюдая эрозию еврейской местечковой жизни, отец трепетно относился к сохранению языка и возрождению идишской культуры. Однако отмеченное во второй части воспоминаний культурно-просветительское оживление также завершилось крахом. В книге имеется множество свидетельств жалкого состояния еврейской культуры в последующие годы. В конце предисловия я поместил фотографию синагоги, которую я нашёл в архиве отца. Взгляните на этот снимок — состояние здания представляется мне очень символичным.
- Невосполнимость человеческих потерь
К проблеме антисемитизма, унижений, физического уничтожения евреев автор возвращается снова и снова на всех этапах жизнеописания. Трагические события истории еврейского народа, преследования евреев в царской России, дело Бейлиса, погромы, политические процессы, сталинские репрессии, борьба с космополитизмом нашли отголосок в воспоминаниях. Рассуждения подростка об ужасающей несправедливости окружающих по отношению к евреям, детальное описание мальчиком процедуры захоронения жертв погрома написаны автором с потрясающей силой и достоверностью.
- Национальные корни и самосознание
Достаточно вспомнить любовное описание праздников, детские восторженные оценки традиционных ритуалов, интерес автора к отрядам самообороны в преддверии прихода погромщиков, его активное участие в создании общественных еврейских институтов в первые годы советской власти. Отец дорожил своей национальной принадлежностью, никогда не был «Иваном, не помнящим родства». Ни при каких советских обстоятельствах он не чурался своего еврейского происхождения, гордился тем, что в его жилах течет еврейская кровь. В архиве сохранилась папка с бумагами, посвященными истории происхождения нашего семейства. Просматривая материалы, чувствуешь, насколько сильно его волновали проблемы национальных корней и преемственности, вопросы возникновения рода, предания о наших именитых отдаленных предках. Сохранность генетического фонда нашего рода служила для отца убедительным аргументом незыблемости и устойчивости всего народа. Окончательная редакция родословной, написанная рукой отца, представлена в конце книги. В ней отсутствует систематический перечень поколений, начиная от зарождения рода до наших дней. На схеме отражены лишь существенные, документально подтвержденные генеалогические линии. Одно из таких удостоверений, приложенных к родословной, я хочу привести целиком с сохранением официального стиля. В справке — судьба талантливого юноши, любимца всей семьи, племянника автора воспоминаний. На генеалогическом древе его ветка трагически обрывается: «Ортенберг Борух Израилевич (1922-29.10.42). Призван в 1941 году Винницким ГВК. Лейтенант, командир роты, 36 гвардейского стрелкового полка, 14 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою. Похоронен: Серафимовичский район, Сталинградская обл. Имя на обелиске в Сквере Памяти в Виннице и в Зале Славы на Мамаевом Кургане в Волгограде»… Вечная ему память.

Несмотря на духовную близость автора к народу, глубокое понимание процессов, происходящих в еврейской среде, читая воспоминания, ощущаешь, что они написаны человеком, пережившим множество идеологических кампаний, судебных фарсов, расправ с инакомыслящими. Жестокое время, выпавшее на его долю, сделало своё дело. При написании срабатывал внутренний контроль, и автор старался избегать радикальных суждений, а в критических ситуациях употреблял осторожные формулировки.
Следует сказать, что общественное сознание в тот период, когда писалась книга, было совершенно не готово к беспристрастной оценке свершившейся катастрофы советского еврейства. Поэтому правдивое изображение еврейской действительности, робкие попытки осмыслить произошедшие в народе изменения показались чиновникам от культуры слишком смелыми. Воспоминания не были приняты к печати в журнале «Советиш Геймланд», издававшемся на идиш. Рукопись была отклонена за нескрываемую приверженность автора еврейскому духовному миру. После смерти отца в 1984 году рукопись воспоминаний долгие годы лежала без движения в семейном архиве.
Судьба книги — продолжение жизненного пути автора. Незадолго до отъезда моей семьи на постоянное место жительства в Израиль по моей просьбе был выполнен подстрочный перевод рукописи на русский язык. Таким образом, в 1993 году экземпляры рукописи на двух языках оказались в Израиле. Почти сразу же отдельные главы воспоминаний были опубликованы в израильских русскоязычных газетах, но затем рукопись снова заняла место на полке.
Прошло ещё почти 10 лет, и о существовании рукописи мне напомнила дочь поэта Давида Гофштейна — Левия. Она рассказала, что в Израиле по результатам ежегодного литературного конкурса лучшим поэтам, пишущим на идиш, присуждается премия имени Гофштейна. Победителям конкурса вручается официальная грамота и брошюра, в которую, помимо материалов о лауреатах и о самом Давиде Гофштейне, включена также глава из воспоминаний моего отца, посвященная его дружбе с поэтом. Я снова извлёк рукописи на свет и занялся их изучением. Застав меня за этим занятием, мой сын безапелляционно заявил:

— Рукописи не горят.
А моя дочка, уже успевшая окончить в Израиле Академию Художеств имени Бецалеля, предложила помочь мне при подготовке рукописи к изданию. И тогда я понял, что ветхие экземпляры рукописи — это завещание моего отца сохранить для потомков свидетельства жизни еврейского сообщества, вписанного в украинскую историю. Я принялся за завершение перевода и редактирование книги.
Для культуры, созданной на идиш, предлагаемая книга — явление уникальное. После десятилетий ассимиляции бытописателей еврейской действительности осталось раз-два, и обчёлся. Поэтому очень важно, что в книге представлена широкая панорама событий и настроений в еврейском обществе. Произведение является и документальным, и художественным, и глубоко личным. Книгу отличает добрый, мудрый и ироничный взгляд на окружающее, неравнодушное отношение к персонажам. Воспоминания переполняют любовь к своему народу, сострадание к его несчастиям и бедам, преклонение перед народным гением. И, наконец, вся книга от начала до конца пропитана Шолом-Алейхемовским юмором.
Еврейская местечковая реальность исчезла, послереволюционное мнимое национальное возрождение бесславно окончилось. К моменту написания мемуаров практически была утрачена и литература на идиш, которая существовала раньше в основном в украинском окружении. Нависшая угроза потери народом памяти — очень устойчивый мотив, звучащий в воспоминаниях. Цель книг — сохранить для человечества память о быте и традициях евреев, об их национальной культуре. Для людей, потерявших родной язык, предлагаемая книга позволит заглянуть в погибший мир наших предков, прикоснуться к живой истории своего народа.
Фред Ортенберг
Иерусалим, Март 2004
Часть первая.
У истоков реки Рось (1910-1920)
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною.
Александр Пушкин

Начало пути
Мать часто рассказывала, как однажды, морозным зимним вечером, в середине месяца Шват, мой одиннадцатилетний старший братик Велвл выбежал из дому в тесный переулок. Увидев своих приятелей по хедеру, он радостно выпалил последнюю новость:
— Мама родила ещё одного мальчика!
Этим мальчиком был я. Для моей матери, родившей двенадцать детей, семь из которых ушли в раннем детстве на тот свет, которая была предана своим детям, и до умопомрачения любила их, — для неё моё рождение было событием, наполненным и тяжёлой заботой, и большой радостью. Как это принято в еврейской семье, был заключён союз с Богом, ребёнку сделали «брит» — и в путь. Это случилось в 1903 году, в маленьком заброшенном местечке Погребище (тогда Бердичевского уезда, Киевской губернии).
Погребище — еврейский «штетл»
Погребище… Вспоминая свою маленькую родину, где я провёл детство и юность, мне трудно избежать сентиментальности и романтических воспоминаний. Перед глазами возникает утопающий в зелени маленький городок, «штетл». Родное местечко осталось в моей памяти и сердце, как светлый образ, насыщенный красотой и любовью.
Возникло оно в давние времена около старых, далеко и глубоко разрытых подвалов-проходов, остатки которых можно видеть и теперь. Отсюда и название — Погребище. Ещё в начале XVII века, во времена «Жечи Посполитой» (польской государственности) в этих местах начали селиться евреи, прибывшие с Запада. Есть много описаний, как мучилось и страдало еврейское население Погребища во время бурных и грозных событий XVII и XVIII столетий.
Во время войны Богдана Хмельницкого против поляков в синагоге в страшных мучениях погибли все местечковые евреи. Об этом рассказывал каменный памятник возле синагоги с надписью, которая сохранилась: «В 1648 году войска Богдана Хмельницкого неожиданно напали на Погребище и истребили польских магнатов и заодно всех евреев, — стариков, женщин и детей, — всех, кто находился в древнем Божьем доме, когда проходила молитва…»
В конце XVII века община в местечке возродилась, но вскоре во время нашествия гайдамаков в 1736 и в 1768 годах евреи из Погребищ снова пережили страх и ужас. В течение XIX века еврейское население неуклонно росло. Община к началу XX столетия окрепла, а местечко расширилось. От старых времён осталась, так называемая, «Портняжная синагога», построенная в XVII веке, с оригинальной художественной росписью на стенах. Это был один из красивейших памятников старой еврейской архитектуры (внутри синагога была четырёхэтажной). Остались и старые редкостные меноры, сделанные еврейскими умельцами и мастерами XVII века. Известность приобрела блистательная погребищенская менора, которую по имеющимся свидетельствам бедный мастер Брух создавал в течение шести лет. Она вошла в сокровищницу еврейского искусства, её изображение воспроизведено на многочисленных репродукциях.

В начале XX века Погребище — довольно значительное местечко, насчитывающее 6000 жителей, 3000 из них были евреи, которые жили в центре местечка, остальные — украинцы, русские и поляки. У меня и сейчас ещё стоит перед глазами центральная узкая улица. Она тянется с одного конца местечка, от трёхэтажной паровой мельницы, до другого, где находилась дорога к мосту, к реке Рось. От центральной улицы в одну сторону отходят меньшие улочки, ведущие к бане и берегу реки, а по другую её сторону — площади и переулки. За ними католическая церковь и помещичий парк. На центральной улице, как везде на свете, находятся красивые богатые дома. Их крыши покрыты жестью, некоторые дома с резными крылечками.
В боковых улицах и закоулках — маленькие сгорбленные домишки с черепичными крышами и узкими затемненными окнами. Большие лужи местами покрыты деревянными настилами. Около реки стоит водяная мельница. Здесь бурный поток падает на мельничные колёса, а дальше река Рось извивается и струится тихим, спокойным течением. Учёные убедительно доказали, что Государство Русь зарождалось у истоков маленькой речушки Рось. «Без всякого сомнения, — писал известный историк Б.Д. Греков, — что имя Русь теснейшим образом связано с древним именем реки Рось или Русь». Слова «Русь» и «Русская земля» относились в древние времена (в ХI — ХII веках) только к бассейнам середины Днепра и реки Рось, впадающей в Днепр. А истоки реки Рось находятся вблизи Погребища. Вот такая значительная роль у моего родного местечка в истории России!
С XIX века местечко было собственностью польского графа Ржевусского. В 1844 году из Парижа в местные края, в замок села Верховное, прибыл просить руки недавно овдовевшей графини Ганской — Ржевусской французский писатель Оноре де Бальзак. Свадьба состоялась, как известно, в 1850 году в городе Бердичеве. Местечко Погребище считалось собственностью графа Адама Ржевусского, брата графини. Его именем и была названа ближайшая к местечку железнодорожная станция «Ржевусская», её построили в семидесятые годы XIX века.
В моё время Погребищами владел не польский граф Ржевусский, а русская графиня Игнатьева, родственница царского министра просвещения, молодого графа Игнатьева. Иногда она с многочисленной свитой приезжала из своего дворца около деревни Крупнодерницы к нам в местечко. Это вызывало большой переполох и пугало евреев.
Старый граф Николай Павлович Игнатьев прибыл в наши края ещё в конце ХIХ века, в 80-е годы, и начал понемногу прибирать к рукам местные земли, но натолкнулся на еврейские семейства, которые имели собственность в близлежащих сёлах. Чтобы поскорее «вытолкнуть» евреев из сёл и поместий, ему, тогда министру внутренних дел, удалось выработать и утвердить знаменитые царские «Временные правила» 1881 года. По ним евреям всей страны запрещалось селиться и брать в аренду землю, а также допускалась возможность их немедленного выселения из тех мест, где они жили в течение многих поколений. Выселение проводилось с исключительной полицейской жестокостью. Деревни и поместья округи были «очищены» от евреев, а «благородный» граф быстро ими завладел.
Среди высланных была и семья тогда ещё молодого еврейского публициста и мыслителя Ашера Гинцберга. Граф Игнатьев столкнулся с его отцом, старым Гинцбергом, земля которого находилась недалеко от дворца графа. Возникший конфликт стал толчком, побудившим графа Игнатьева в дальнейшем разработать вышеназванные бесчеловечные «правила». Семья Гинцберг переехала в ближайшее село, другие высланные еврейские семьи перебрались в окрестные деревни и ещё больше увеличили тесноту местечковых гетто. «Временные правила», запрещающие евреям жить в деревнях, оставались действительными вплоть до 1917 года. Таково было прошлое евреев России в его реальном обличье.
Я знал свидетеля тех событий седовласого восьмидесятилетнего старика Хаима-портного. Это был низенький, сгорбленный старичок, с густой белой бородой, с бледным лицом, сморщенным, как ореховая скорлупа, и с толстым носом. До выселения Хаим жил в деревне вместе с семьёй Гинцберг. Мы часто слушали его рассказы о детстве и юности известного писателя и публициста Ахад ха-Ама.
Чем жили в местечке?
В моё время треть семей Погребищ жила торговлей. Лавки, большие и маленькие, были разбросаны по дорогам, улицам и площадям. В них торговали бакалеей, тканями, строительными материалами, домашней утварью, продуктами. Большие мануфактурные магазины были завалены дорогими текстильными товарами из Лодзи и Варшавы. Рядом находились маленькие магазинчики, расположенные в ряд, где предлагали дешевое сукно и головные платки, скобяные товары, посуду и стеклянные изделия, глиняные горшки, муку и зерно. За прилавками стояли бородатые евреи: летом — в распущенных балахонах, зимой — в дешевых шубах; рядом, как правило, — жены. Зимой жены грели руки и ноги на нагретых горшках, ждали покупателей, ругались и сплетничали. Торговля — занятие семейное, поэтому в лавках часто можно было видеть и старших детей.
Процветали несколько крупных магазинов для богатых покупателей. В средних и маленьких лавках торговали мало. Но в базарные дни дела шли лучше. Площади были забиты подводами, крестьяне и крестьянки из ближайших деревень заполняли бесчисленные лавки. В такие дни по местечку распространялся запах крестьянских свиток и пота. Часто торговцам приходилось выезжать в кибитках, на подводах в соседние сёла на ярмарку в надежде продать залежалый товар.
Конкуренция в торговле была жестокая. Среди торговцев зависть, вражда, конфликты — явления обычные. Бесконечные стычки между ними омрачали жизнь, создавали трудности, ухудшали и без того плачевное финансовое состояние. Все эти болячки бытия, необеспеченность, бедность, усугублялись боязнью полного банкротства, страхом за семью, за судьбу многочисленных детей. Большинство придерживалось старой еврейской традиции плодиться и размножаться без ограничений.
Ещё одну треть еврейского населения Погребищ составляли ремесленники: портные, шапочники, сапожники, столяры, жестянщики. Больше всего было портных. Я помню имена нескольких известных в то время погребищенских портных: Израэл, Гершеле, Няре, Лейб Липов, Янкель, Голд, Юровский (он говорил по-русски). Как правило, портные обслуживали местных жителей, но иногда выполняли заказы со стороны. Так в 1915 году во время мировой войны в Погребище приехал армейский интендант с заказом на пошив тёплых ватников. Подрядчик привёз необходимые для работы материалы, а местечковый портняжный цех выполнил заказ добросовестно и в назначенный срок.
Следующая по численности группа ремесленников — шапочники. Их продукция пользовалась спросом, как в самом местечке, так и окрестных сёлах. Затем шли сапожники и жестянщики. У большинства ремесленников заработки были небольшими, в среднем — от 150 до 200 рублей в год. Пик производственной активности приходился на канун еврейских и христианских праздников. Наступления предпраздничных дней ремесленники ждали с нетерпением круглый год.
Наконец, последнюю разношерстную треть населения местечка можно определить следующим образом. Это — купцы, маклеры, всевозможные агенты, комиссионеры, служащие, приказчики, люди свободных профессий, учителя, адвокаты, бухгалтеры, служители культа, религиозные учителя (меламеды), просто «люди воздуха» и нищие. Незначительную прослойку представляли подручные опытных ремесленников и наёмные разнорабочие мелких предприятий, например, мельниц.
Несмотря на такую пёструю картинку занятости, жить в местечке было очень тяжело. Нужда и нищета царили в его тёмных и грязных переулках, а число бедствующих жителей увеличивалось из года в год.
Религиозная жизнь
Теперь перейдём к описанию духовной жизни местечка во времена моего детства. В начале XIX века Погребище было резиденцией больших праведников и раввинов, ведущих свою родословную от Бера Межеричера, ближайшего последователя основателя хасидизма рабби Исроэля Бал-Шемтова. Правда, последний представитель династии праведников, сын хасида Шолома Погребищера — Исроэл Фридман, правнук рабби Бера Межеричера, перенёс свою резиденцию из Погребищ в расположенный неподалёку город Ружин. В дальнейшем рабби покинул наши места насовсем, переехал в Галицию, в местечко Сад Гора и там создал династию так называемых Садагорских раввинов. В Погребище и Ружине остались последователи Садагорского рабби, которые затем на протяжении многих поколений ездили с подарками через границу в центр хасидизма, в Сад Гору на поклон. После присоединения Западной Украины к России бывшее местечко Сад Гора стало окраиной областного центра Черновцы.
Ещё в 1858 году граф Адам Ржевусский просил министра внутренних дел Ланского разрешить всей большой семье Фридмана — его сыновьям Абраму, Янкелю, Нохему, Мордхе, Давиду, их родственникам и слугам — вернуться из Галиции в Россию, в Погребище, учитывая, что они отсюда родом. Разумеется, ходатайствовал граф не бескорыстно — как хозяин местечка он рассчитывал на весомую благодарность семейства Фридман в случае удовлетворения его просьбы. Однако правительство разрешения на возвращение не дало.
Дома умерших праведников, покинутые семьёй Фридман, стали святыми местами, куда приходили верующие хасиды. У «святых домиков» они оставляли записки с пожеланиями и просьбами. Приехавшие позднее последователи и преданные хасиды Садагорского рабби поддержали эту традицию. Были в местечке хасиды и другого галицийского праведника — Буянского рабби. Хасиды из этих сект часто ссорились между собой.
Всего же в местечке были четыре синагоги, два раввина — старый и молодой, несколько резников… Большая синагога предназначалась для избранных: знатоков Талмуда, хасидов и просто богатых евреев. Среди них встречались колоритные личности.
Например, богатый торговец мануфактурой Шмерл Франкман. Был он человеком исключительно скаредным, милостыню никогда никому не подавал, богатство нажил, используя грязные средства, подлоги и обман. Молва утверждала, что Шмерл обворовал даже своего старого отца. Зато, когда Садагорский рабби однажды приехал в Погребище Франкман уступил ему свой большой особняк на всё время визита, рассчитывая таким образом «искупить» грехи.
Самым богатым человеком в местечке был Азриэль Канцберг. Этот «праведник» занимал почётное место у западной стены Большой синагоги, хотя в жизни, в торговых сделках с купцами и помещиками мало заботился о соблюдении десяти заповедей. Понятия честность, справедливость были ему неведомы. Патологическая скупость довела его до того, что он перестал помогать даже своим детям. Для него существовали только деньги. Над людьми с моральными принципами он открыто насмехался.
Вспоминается такой эпизод богатой биографии Азриэля. Однажды его пригласили во дворец к графине Игнатьевой, которая жила в соседней деревне. Канцберг прибыл на встречу в праздничном сюртуке и с надеждой на прибыльную сделку. Его проводили в переднюю комнату, и через некоторое время из внутренних покоев вышла графиня в сопровождении богато наряженной блистательной, гордой дамы. Незнакомая дама поднесла лорнет к глазам и пристально посмотрела на Канцберга, стоящего с непокрытой головой и с застывшей на лице подобострастной улыбкой. Некоторое время она рассматривала его сюртук, длинную чёрную бороду, а затем сказала по-французски:
— C’est charmant! (Очаровательно!)
И обе дамы удалились. Слуги объявили Канцбергу, что он может возвращаться домой.
Оказалось — у графини гостила придворная дама его императорского величества Николая II — княгиня Голицина. Во время осмотра поместья графиня рассказала ей, что в её местечке Погребище живёт много евреев. Гостья высказала пожелание увидеть настоящего еврея, поскольку она никогда раньше их не видела. Азриэль Канцберг как раз и был тем самым «образцовым» евреем, которого графиня с удовольствием продемонстрировала своей высокопоставленной гостье. Обе дамы не видели ничего унизительного в том, что человека показывали, как некую диковинную вещь, а сам Канцберг с гордостью рассказывал всем, как он предстал в новом шелковом сюртуке перед «высокия очи» придворной дамы. Эта аудиенция имела продолжение: на одной из следующих встреч графиня продала ему на очень выгодных условиях большой массив леса.
На праздник Йом-Кипур, в Большую синагогу приходили представители светской еврейской буржуазии, которых в народе называли «лещами». Среди них мне запомнился владелец большой паровой мельницы, выделявшийся своей наголо бритой головой и каким-то нееврейским лицом. «Лещи» были редкими гостями в синагоге, хотя престижное почётное место у западной стены было закреплено за каждым из них постоянно.
Недалеко от Большой синагоги, в нижней части местечка, находилась Маленькая синагога, в которую приходили верующие из среднего сословия, Далее, почти на краю местечка располагалась ранее упомянутая старинная «портняжная синагога». Она открывалась только в праздничные дни. Посещали её в основном ремесленники и рабочий люд. Здесь всегда пел хороший кантор, и жители местечка, не очень углубляясь в строгое соблюдение всех ритуалов, проводили праздники весело, смеялись, дурачились и отдыхали после тяжёлых рабочих будней.
Старый раввин Шолом-Довид — низенький, очень худой, истощенный старик с пергаментным лицом, седой козлиной бородкой, и большими, темными, потухшими глазами, мучительно кашлял. Он был глубоко верующим человеком, мирское, земное бытие его не интересовало. Имел он четырёх взрослых дочерей, его семья жила очень бедно, В быту раввин довольствовался малым, на семейные материальные трудности внимания не обращал. Будучи по природе хорошим добрым человеком, он преображался, когда речь шла о нарушении религиозных правил. В таких случаях он становился шумным, злым, агрессивным, и заходился в продолжительном старческом кашле. Однако к его поучениям и запретам прислушивались всё реже и реже.
Об одном местечковом хохмаче, строившем дом в субботу, рассказывали, что на вопрос, получил ли он разрешение раввина Шолом-Довида, тот ответил: «Разумеется, я обращался за разрешением к раввину». — «Ну, и что же он тебе ответил?» — «Он сказал, что нельзя строить, но я его не послушал…»
Молодой раввин Айзик — плотный, красивый человек с рыжей бородкой, только начинающей расти, и очками в позолоченной оправе на носу — был немножко либералом. Он стремился заслужить авторитет у молодых и бедняков, и никого не осуждал их за нарушения и грехи. Да и сам он не очень строго придерживался традиций и не производил впечатления человека, одержимого служением религии.

Запомнившимся событием в религиозной жизни было нашумевшее посещение летом 1912 года нашего местечка молодым Садагорским рабби из галицийской династии Фридманов. Чтобы увидеться с рабби его последователи из окрестных сёл приехали в Погребище заранее. Богатые хасиды поселились в частных домах, а бедные устраивались на ночлег на скамьях в синагоге, в прихожей большого дома Шмерла Франкмана.
В день приезда на железнодорожной станции собралась огромная толпа, которая затем сопровождала карету, в которой рабби проследовал домой, окружённый крупными бородатыми охранниками. В пятницу он прибыл на вечернюю молитву в сопровождении самых авторитетных хасидов, и опять толпа встречала его, выстроившись по обе стороны у входа в синагогу и на лестницах. Садагорский рабби посетил и могилы своих святых праотцов на местечковом кладбище. Однако большую часть времени он проводил дома, принимая подарки от местных и приезжих хасидов, обсуждая с ними дела духовные. Иногда он появлялся у приоткрытого окна, и тогда можно было рассмотреть молодого человека среднего роста с густой черной бородкой, белым лицом, бесцветными глазами, с красивой шелковой ермолкой на голове. У него была заурядная внешность, ничего необычного, ничего привлекающего внимание. Но хасиды, ожидавшие его появления в окне, взирали на рабби с восторгом и восхищением. Оказавшиеся возле дома прохожие, в особенности юноши, отпускали по адресу рабби и его приближённых язвительные замечания, шутки. Делали они это, правда, с опаской, побаиваясь вспыльчивых молодых хасидов. Образованная публика также отнеслась неодобрительно к нелепому шуму вокруг визита равва. Тем не менее, необычная суета вызвала любопытство даже у самого пристава, который решил посетить раввина. Его благородие приехал в полной амуниции, вызвав, естественно, некоторый испуг у евреев. Подручные рабби встретили пристава с опаской и большими почестями. Пробыл он у раввина достаточно долго, тема их разговоров осталась тайной, но результатом встречи пристав был доволен. Прощался он с улыбкой на лице и сказал на ходу:
— Святой человек… Умница…
Комично выглядело посещение раввом бани. На облучке кареты, в которой «его светлость» ехал в баню, сидел счастливый набожный Мошка. Сытые лошади весело ржали, радуясь выпавшему на их долю вниманию и почёту, а толпа особо рьяных почитателей бежала рядом, приветствуя своего кумира. Мой брат Велвл, слывший среди юнцов остряком, наблюдая эту картину, обронил в адрес эскорта, сопровождавшего равва:
— Они думают, что провожают его в баню… Но, по правде говоря, это он провожает, точнее, посылает их в «баню».
За эту остроту брат получил от нашей набожной мамы взбучку. Но народу двусмысленная шутка понравилась, и её много раз вспоминали и после отъезда молодого Садагорского рабби назад, в Галицию.
Светские люди
Иудаизм прочно укоренился в сознании большинства евреев, основная масса жителей местечка была религиозна. Однако влияние религии на жизнь людей постепенно ослаблялось, распространились атеистические настроения.
Появились светские люди, которые порвали со старым патриархальным бытом: молодые дельцы, служащие, лица свободных профессий. К местечковой массе, покинутой ими, они обычно относились или безразлично, или высокомерно-презрительно; некоторые из них испытывали неприязнь к служителям культа. Попытаюсь вспомнить нескольких типичных представителей из таких ассимилировавшихся семей.
Старый аптекарь Ройфман был внешне совсем не похож на еврея, он ходил всегда бритый, без шапки, в одной рубашке, свободно говорил по-русски, в общинные дела не вмешивался, не имел ничего общего с местечковыми евреями и с их старомодным укладом жизни. Целыми днями Ройфман занимался изготовлением лекарств — таких пахучих и душистых, что не хотелось уходить из его аптеки. Когда он рассматривал рецепты, готовил и подбирал лекарства, объяснял, как их применять, евреи испытывали к нему чувства почтения и признательности.
Его постоянный посетитель красивый молодой парень Айзенберг жил вместе со старшим братом и его женой у железнодорожной станции. Братья Айзенберг также придерживались свободных взглядов. Они были комиссионерами и занимались отправкой, получением и доставкой грузов. Младший брат красиво одевался, от него всегда пахло духами, и говорил он только по-русски. Его тянули к аптекарю Ройфману не только общие взгляды и русская речь. У Ройфмана, кроме аптеки, была красивая, немного полноватая, дочь. Молодой Айзенберг каждую субботу приезжал к аптеке на собственной нарядной повозке, украшенной металлическими побрякушками . Он сажал рядом с собой дочь Ройфмана, которая от радости расплывалась ещё шире, и приказывал извозчику:
— Пошли, поехали…
Стоящие вокруг набожные, бородатые евреи наблюдали за этой сценой и удивлялись:
— Ну, вы что-нибудь подобное видели?
Однако молодой Айзенберг не считался с чужим мнением. Он продолжал жить весело, на широкую ногу, играл в карты с местными чиновниками. Это подогревало интерес к его персоне, а дочери аптекаря он расточал такие причудливые комплименты, что та просто не выдерживала. Она готова была немедленно подарить ему и своё пылкое сердце, и пышное тело. В конце концов, они поженились и редко показывались в местечке.
Среди молодёжи Погребищ зарождался новый слой общества, формировалась будущая интеллигенция. Это были юноши и девушки, недовольные старыми устоями, протестующие против жизненного порядка, установленного родителями. Они находились под сильным влиянием современных идей, хотели перемен, искали пути к новой жизни.
Тяжело было еврейскому подростку вырваться из местечка в так называемый большой мир. Помимо обычных трудностей, для еврейской молодёжи, желающей получить образование, существовала строгая процентная норма. Немногим местечковым молодым людям, среди которых встречались очень способные и эрудированные, удавалось поступить в гимназию или в университет. Некоторая часть молодёжи пыталась получить образование экстерном. Оставшиеся в местечке молодые люди много читали (в большинстве случаев русские книги), увлекались новой еврейской и древнееврейской литературой, следили за журналами, газетами, интересовались общественной жизнью, научными проблемами.
Хорошо помню, как долгими зимними вечерами с книгами и газетами, они собирались у кого-нибудь дома, в комнате, освещенной керосиновой лампой, рассаживались вокруг старого обеденного стола и допоздна беседовали о добре и зле, мечтали о новом мире.
Однако, несмотря на жизненную энергию и накопленные знания, никто из них не знал, что сделать, чтобы изменить окружающую серую действительность. У многих возникли тоска и неясное стремление к чему-то высокому и прекрасному. Подобные настроения можно объяснить общим подавленным состоянием русского общества в период между двумя революциями 1905 и 1917 годов. Успехом у еврейской молодёжи пользовались такие произведения, как «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского, «Записки революционера» Кропоткина. Благодаря подобным книгам, некоторая часть молодёжи увлеклась социалистическими идеями, но большинству еврейской молодёжи импонировали идеи сионизма. Находились и такие умники, которые пробовали соединить оба направления вместе. Между тремя группировками, естественно, возникали горячие споры о будущем еврейского народа.
Но не вся молодёжь, тяготеющая к светской жизни, ринулась в пучину общественных страстей. Некоторые молодые люди, постепенно отбросив былые благородные идейные устремления, занялись производством и коммерцией. Иногда бывший радикал, который в 18-20 лет резко выступал против частной собственности, к 25-30 годам покупал собственный дом или магазин… В это время многие молодые люди поменяли свои романтические идеалы на тихое личное благополучие.

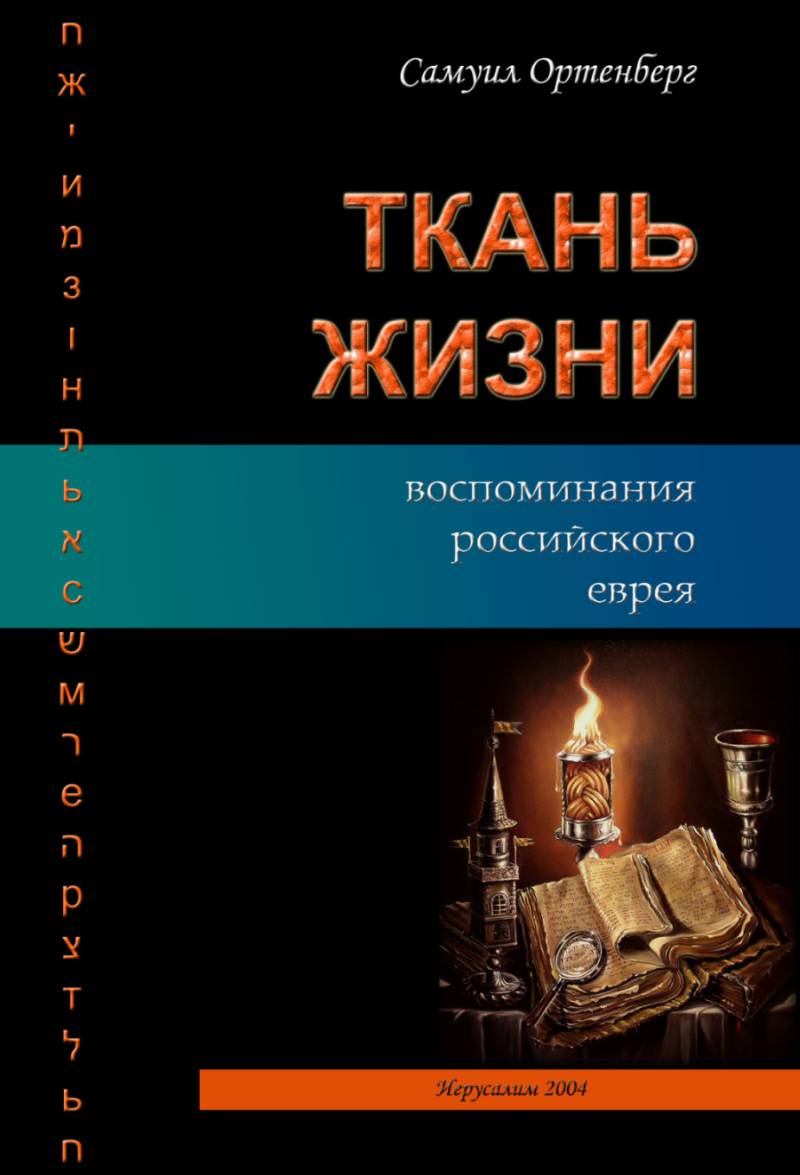

Как ценны такие публикации.Они позволяют приблизить ушедшее время,время родителей,ушедшую цивилизацию.
Мои предки тоже из местечка Сатанов,Проскуровской области. Дядя,Гершгорн Михаил Соломонович,оставил после себя тетрадь с описанием истории нашей семьи.Если автор захочет,с удовольствием предоставлю её в его распоряжение.Я живу в Израиле,в Тель-Авиве.Связаться можно по телефону 0544773813.
Интереснейшая и ценная публикация.
Особого внимания заслуживает биографическая справка сама по себе являющаяся интересным и ценным документом.
Спасибо.
М.Ф.
Естественный вопрос:
есть ли у Вас, у Вашей семьи какие-либо родственные связи с главным редактором «Красной Звезды», генерал-майором Давидом Ортенбергом?