![]()
Пора, давно пора нашему поколению говорить свое последнее отеческое слово, как сделало это поколение наших отцов. Спор отцов и детей, становящихся отцами, продолжается во взаимных несогласиях, недопониманиях и проникновениях. Отцы наши, давно умершие, но так и не ушедшие от нас, небезгласны и честны.
Копыловы
In memoriam
Александр Левинтов
Главного персонажа повести «Путь, которым вёл тебя» зовут Копылов. Это — память о замечательном человеке, моём хорошем и близком друге Геннадии Герценовиче Копылове, жалкая попытка хоть как-то сохранить его доброе и мужественное имя.
Собранные здесь заметки написаны в разные годы, поэтому глаголы прошедшего времени сменяются глаголами настоящего, чтобы смениться вновь перфектом или даже плюсквамперфектом.

Герцен Копылов
Отеческое наследство[i]
Эти два человека прожили удивительно похожие жизни — Герцен Копылов, отец моего друга Гены, и мой отец, Евгений (Генех) Левинтов.
Евгений родился в 1919 году и по окончании филфака московского пединститута загремел на войну. Герцену немного повезло родиться на шесть лет позже и потому избежать фронта. Герцен, гуманитарий по натуре, поступает на физфак МГУ и в 1949 году заканчивает его с отличием. Мой отец по окончании войны вынужден учиться в Ленинградской военной академии связи, которую заканчивает в 1951 году. Герцена распределяют на родину — в Днепродзержинск, преподавать в женской “шерамыге” (школе рабочей молодежи), Евгения, родившегося в Саратове, — в соседний с ним Тамбов, в безнадежный черноземный гарнизон, где спился несчастный автор армейского вальса “На сопках Маньчжурии”. Оба достаточно претерпели в стране пролетарского интернационализма как интеллигентные космополиты. Оба прожили жизнь технарей и сделали на этом поприще вполне приличные карьеры, оба остались верны филологии и беллетристике, сделав литературу второй половиной своей жизни. Оба не унижались до партийно-политических действий и относили официальную политику к сфере застольного пищеварения, не более того. Евгений умер на два года раньше Герцена, в 1974 году…
Поэтому мне писать о Герцене Копылове невозможно, не вспоминая своего отца, не думая об этом странном поколении романтиков и труженников, бойцов по духу и беззащитных евреев. Они вынуждены были быть лидерами, иначе из них делали аутсайдеров, не давая отсиживаться в середке. Окрест сходили с круга по пьяни или в стукачи друзья и единомышленники, а они оставались неизменно на траверсе своей профессии и своей второй, литературной жизни.
И еще. Оба были, хоть и невыездными, но эмигрантами. Оба стилистически пребывали в литературе и поэзии 19 века, отметая для себя посконь и суконную скуку сучьего соцреализма для и от казенного пролетариата.
Но один написал несколько книг о войне, которые и не предполагали быть опубликованными, а также завещание своим детям, полное пафоса быть верными идеалам коммунизма, другой же оставил в наследство “Евгения Стромынкина” (популярная студенческая поэма, долгие годы гулявшая в устном варианте и на правах народной, без автора) и “Четырехмерную поэму” да еще такую вот фразу в коротком завещании:
«Если это только станет возможно — беги из этой тюрьмы».
Сыновья обоих данных им заветов не выполнили…
Вот.
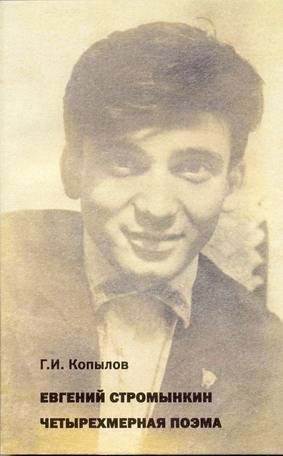 А теперь — о Герцене Копылове и его книге, увидевшей постсоветский невзрачный свет 31 декабря 1998 года, через двадцать два года после смерти поэта, работавшего над этим увесистым томом чуть ли не два десятка лет.
А теперь — о Герцене Копылове и его книге, увидевшей постсоветский невзрачный свет 31 декабря 1998 года, через двадцать два года после смерти поэта, работавшего над этим увесистым томом чуть ли не два десятка лет.
Стромынка. Развесёлая окраина
Наметив план мероприятий,
На глаз прикинув их объем,
Стромынкин Женя, мой приятель,
Решил уверенно: «Пробьем!»
Уже успел он, вставши рано,
Обрыскать все карманы рьяно…
Но кроме серого платка,
От авторучки ободка,
Да крошек — завтраков остатка,
Да горстки радиочастей —
Верньеров, клемм и емкостей,
Да двух копеек за подкладкой,
Да пропуска в студгородок, —
В них ничего найти не смог.
Почему Евгений Стромынкин? Вопрос выдаёт не москвича. Большая Стромынка, унося ноги от трех вокзалов, мчит трамваями к Сокольникам. Много в Москве мест для веселья и потех, но самое веселое здесь. И так повелось с самого начала этой, некогда царской вотчины, с незапамятных времен.
Алексей Михайлович, второй в династии Романовых, был, по сути, последним московским царем и оставил по себе добрую память и действительно много сделал для страны и города. Измайлово, Сокольники, Коломенское — любимые детища царя, ставшие и нашими игрушками. Хотя, конечно, при нём был и Стенька Разин, и Медный бунт, и постыднейшая реформа православия.
Жизнь Москвы, концентрирующая в себе жизнь всей страны, но именно концентрирующая, всегда держалась на этих двух крайностях: жесточайшая и суровейшая неумолимость казней, пыток, страданий и безудержная, непомерная веселость. Ни в какой карнавальной Венеции не достигался такой головокружительный градиент между ужасом и весельем. Тут даже непонятно — то ли это такое веселье от отчаяния, то ли веселье по ночам зашкаливает до зверств. Во всяком случае, тихому европейцу, тем паче, тихому американцу, здесь страшновато и стрёмно — днем и ночью, особенно, если учесть, что весь этот разгул — под сенью колокольного звона, истовых молитв и суровых ликов святых.
Один мой знакомый американский шпион рассказывал (у него — чистейший русский, без малейшего акцента), как он работал на американской выставке в Сокольниках в начале 60-х. По легенде, он стоял гидом у какого-то стенда. Лето, жара. Сам Бог велел пить. Он и пил, держа полугалонную бутылку под прилавком. Подходит к стенду мужик:
— Покажь, что там у тебя?
— Где? Ничего нет.
— Да не бойся. Я не с Лубянки.
Мой приятель достал свою малышку.
— «Смирновская»? Где ж такую делают?
— В Нью-Йорке.
— Хорошая тара. А эта белая штука наверху зачем?
— Чтоб завинчивать, когда не допил.
— Не понял!
И тут бедный шпион понял, что ни хрена пока в русской жизни еще не понимает…

Стромынка. Это здание представляет собой почти полностью замкнутый квадрат четырех или пяти этажей росту. В центре — небольшая часовня. По которой можно предположить, что изначально здание предназначалось в казармы.
Уже многие десятилетия теперь здесь — студенческая общага. Многие московские ВУЗы имеют здесь свою квоту койко-мест.
По перечню читатель тотчас
Поймет, что, волею судеб,
Евгений — обойдусь без отчеств —
Из общежития студент.
Других же сведений покуда
О нём я разглашать не буду —
Нет времени. Стромынский люд
Проснулся. Жители снуют
По полутёмным коридорам.
Здесь в умывалку держат путь
Ребята, волосату грудь
Открыв нелюбопытным взорам.
Там девушка, надев халат,
Скользит с ведром, потупив взгляд.
В 50-е было неприлично господам студентам не знать наизусть всю или большими кусками ходившую по рукам поэму “Евгений Стромынкин”. Считалось, что поэма — народная. Озорная и безобидная, поэма не имела никаких шансов увидеть свет в печатном виде, слишком уж она не рифмовалась с чугунной казёнщиной соцреализма, да ещё в самом его густопсовом изводе — в послевоенные годы, когда поэма сочинялась, декламировалась, переписывалась — первый советский самиздат.
Кто тащит булок половинки,
Кто мчится со сковородой
Из кухни… Ба, а вот Стромынкин,
Знакомый наш. Решив едой —
Едой обильной и горячей —
Заесть с деньгами неудачу,
Из кубовой он налегке
Несётся с чайником в руке.
И, сев за стол, единым духом —
Не маслом, не яиц пятком —
Обыкновенным кипятком
С обыкновенною краюхой
Он утолил свой аппетит —
И вниз по лестнице летит…
Я восхищенными стихами
Хочу воспеть тебя давно,
Рассматриваемая нами
В момент кипенья H2О,
Остаток от поры военной,
Студента спутник неизменный,
Отрада долгих вечеров,
Для тех, чей аппетит здоров,
А утолить — не по карману.
Твой дух, твой жар всегда создаст
Недостающий нам балласт
Для погружения в нирвану.
И в честь тебя в кратчайший срок
Создам я оду в сотню строк…
На Стромынке кипит-бурлит развеселая жизнь. Не знаю, как сейчас, а в мои времена любая общага, от университетских хором до общаг лимиты, обходилась в три рубля с копейками в месяц, грубо говоря, 10% стипендии. Смешные деньги — что бутылку водки выкушать, что месяц иметь крышу над головой. Я несколько раз ночевал в этой общаге — самая общажная общага. Но сколько там было всего и сколько растиньяков прошло через ее натруженные койки!
Четырехмерная. Жанр поэмы
Сначала о жанре — тем более, что автор сам его четко определил:
Я не храбр — не в поле воин;
не мыслитель — не глубок;
и пишу я поневоле
не поэму, а ЛУБОК
в старом добром русском стиле —
рано мы его скостили,
он послужит нам еще,
на него-то и расчет.
Лубочный и легкий строй стиха, и лексика — конфетти из студенческого сленга, научной терминологии, пародийных подражаний советскому официальному языку и тяжеловесных словес 18-19 веков.
При этом, конечно, это не народный лубок — народностью здесь хоть и драпируется и щеголяется по делу и без дела (в чем сказывается протест человека с почти классическим образованием против шершавого косноязычия официальной речи), это — типичный студенчески-разночинный лубок, имеющий свою традицию острейшей злобы дня, продукта, строго говоря, скоропортящегося и непонятного уже в следующей ситуации и в следующем акте истории как комедии. Потому и начинается поэма более, чем недвусмысленно и этой же строкой, как скобкой, заканчивается:
Ламца-дрица-гопцаца!
И может десятка два раз Герцен Копылов оговорится еще “Но я ученый, не поэт”, индульгируя свой непрофессионализм в поэзии (и это отличает его от фортификационного поручика Достоевского, от капитана дальнего плавания Гончарова, от химика Бородина, вообще от родственных ему людей с двойной-тройной жизнью), но в этой слабости есть свой резон. Не то важно Герцену Копылову, что он литфаков не кончал, а “уличность”, бессребничество, балаганность его стихов и стихов ему подобных авторов:
Они звучали электричками,
с гитар оттаявших сочась,
они казались эклектичными
и просто слабыми подчас.
Но никли, кто писал за никели,
пред этой уличной строкой,
перед поэзией людской —
мы их затюкали, заныкали.
Нет, это не народность телогреек с кирзой, это интеллигентский драп-хохотунчик на рыбьем меху, но мне кажется, что именно эти не всегда и не совсем русские разночинцы, чиновники и ученые средней руки, эти жалкенькие Башмачкины и Макары Девушкины — и есть русский народ.
Жанрово “Четырехмерная поэма” — огромная эзоповская басня. Эзоп, хоть и был причислен к лику семи мудрецов, оставался в Элладе идиотом, то есть человеком, не владеющим языком греков вполне и вынужденным говорить иносказательно, аллегорически. Кругом стоял афинский мат и доплатоническая феня, а этот раб говорил цветасто и двусмысленно, зато что и кому, как не нам, он говорил?:
Зевс дал болоту царя — старую корягу. Непоседливым лягушкам не понравился ленивый владыка и они выпросили себе у Зевса более шустрого — ужа. Выбирая себе правителя, думаем ли мы о себе?
Жанр поэмы, если не обращать внимания на ее фундаментальные размеры, вполне из одного лукошка с шутовством и юродством, райком, фиглярством: здесь слышны и отчаянные шутки скомороха Ролана Быкова из “Страстей по Андрею”, и кривлянье-ерничание папашки Карамазова, и студенческая вольница немецких и русских университетов, и Панург, и Полишинель — хохот и смех сквозь страх.
Из строки слово не выкинешь: пережив сталинскую эпоху и тотальный ужас антинародного государственного террора все уцелевшие евреи, полуевреи и недоевреи (а равно — ижора, савокаты, калмыки, крымские татары, турки-месхетинцы, люди всех национальностей, оказавшиеся с записью “был на оккупированной территории”) навек остались со своей оглядкой:
Синявские и Даниэли
мне, как и всем, поднадоели.
Их жаль, но жаль и наших жен:
что лезть без толку на рожон…
Я, интенсивной жизнью тайной,
всласть ненавидя и любя,
живу (но только про себя,
в виду опасности летальной):
засев у радиокоробки,
ее включаю на коротких
и, вперемежку с Дебюсси,
ловлю на русском ВВС;
смакую тайно “В круге первом” —
он так детально бьет по нервам;
……………….
А если вдруг падет мой дух,
и нету сил, и все бы к черту, —
пишу стихи, где мыслю четко…
и в стол кладу…
Герцен честно трусит: руки дрожат, но выводят крамолу на пять-десять строгого без права переписки. Так однажды Евгений, драпая из харьковского госпиталя после первого, неудачного освобождения этого города от немцев, вынужден был переходить ночью по длинному и разбомбленному мосту. На середине моста, над самой стремниной, он окончательно струсил, лег на балку и пополз. И прополз, и спасся, и прошел потом и Сталинград и Курскую Дугу, и еще раз тот же Харьков.
Компрегентный ряд
Порой при чтении “Четырехмерной…” возникает ощущение, что где-то ты это уже слышал или читал. Многие места кажутся отрывками, цитатами или аллюзиями на давно и хорошо известное. Вот несколько примеров:
глядишь новаторство в чести
стишки абстрактное искусство
смешки и прочее паскудство
простор
восторг
ажиотаж
виденье новых смелых курсов
а ты их раз на карандаш
да под конвой да счетом в кузов
Что-то здесь есть от Александра Зиновьева, от его беспощадной прямолинейной поэзии. А здесь мне слышится Бродский:
О блинный край, молочны лужи!
Ты дорог нам, тебе мы служим.
О край, где тухлые моря!
О край, где пугало хмыря!
Где каждый стог встречают звоном
и где простор и рай воронам!
Есть эпизоды, прямо ложащиеся на музыкальный лад “Наутилус Помпилиус” с его гороховыми зернами и “скованы одной цепью, связаны одной целью”:
Нам сомневаться не к лицу —
…Кто прокурор, а кто ответчик?
В одних покоях нас растили.
В одних помоях нас крестили.
Одною ложью нас растлили.
……………..
Опутаны одной петлей…
А этот пассаж — чем не Галич?:
Твои любимые друзья-приятели
свое доверие к тебе утратили
и на собрании вчера в полтретьего
разоблачение с подъемом встретили.
Твоя подруженька с работы изгнана
за то, что с партией была неискренна,
за то, что связана и что не кается,
Ей ваши нежности теперь икаются.
И начинаешь оторопело понимать, что Герцен Копылов писал до них, что это — не вторичные перепевы уже известного и понятого нами, что это — то, из чего и чем росли уже знакомые нам и ставшие классиками…При этом, разумеется, никто из этого ряда слыхом не слыхивал о поэте-физике из полузакрытой Дубны.
Впрочем: Галич свое пятидесятилетие (19 октября 1968 года) отмечал в Дубне и даже ночевал неподалеку от Копыловых, у которых в те дни (да и вообще частенько) остановился Ким, напечатавший на пишмашинке Герцена свою песню “На 50-летие Галича” (второй экземпляр до сих пор бережно хранится в семье Копыловых):
Сэкономил я на баночку одну
и для храбрости глотнул, оставив треть,
и поехал в подмосковную Дубну
там на Галича живого посмотреть.
Я дубна, она — ох, неблизенько,
а в Дубне одна только физика,
не видать людей, видно померли,
никаких идей, только формулы…
Однако говорить здесь о каком-либо серьезном взаимовлиянии, тем более — сотрудничестве будет слегка неприлично. Просто — они дышали одним смрадом и равно чувствовали это.
История как кинематика резонансов
Если честно, то я не очень помню, что имеют в виду под резонансом физики. Но, вот, человек же на этой банальности — и книжку научную написал, и докторскую защитил (тут меня вразумили: это мы, смертные, считаем резонанс просто отзвуком или созвучием, физики-ядерщики имеют в виду нечто навыкате и называют резонансами короткоживущие полуустойчивые состояния элементарных частиц).
Мне кажется, что, как и всякий ученый, Герцен Копылов в конце концов зажил жизнью объекта своих исследований и полностью попал в резонанс и стал созвучен своей стране и своей эпохе. Во всяком случае, историю, прошедшую, настоящую и предстоящую историю своей страны он воспринимает как историю собственной жизни и живет в этом вполне естественно и убедительно.
У нас такой порыв,
у нас такой накал:
о будущем забыв,
мы строим на века!
Перефразируя знаменитое школьное сочинение, можно сказать, что Герцен Копылов одной ногой стоит в прошлом, другой ногой приветствует будущее, а третьим, наиболее существенным органом посылает настоящее:
А так сижу, ничем не занят,
ничто не ждет, ничто не манит,
ни хоббей нет, ни дел, ни вер…
Двадцатый век! Что делать, сэр!
ХХ век — он, брат, не мед…
Сижу и жду, когда рванет.
Редко, кому удалось выстроить парадигу российской истории столь сжато и ёмко и к великому “Воруют!” мы можем теперь добавить р-р-еволюционное “Равняют!” (а в скобках — “братают!” и “освобождают!”, если, конечно, дотянул до конца срока):
Сколько веры с удалью
и с леченьем розгами,
чтоб, начав от Суздаля,
да такое создали, —
чтоб от Кушки до Таймыра
те же люди у кормила,
чтоб в Тифлисе,
в Магадане
те же мысли,
те же зданья,
те же странные квартиры
с той же ванною в сортире,
тот же вкус отбивной,
тот же дух от пивной,
грязь по колени,
связь поколений,
чтоб одна окраска стен,
чтоб одна увязка цен,
и пальто реглан,
и поток реклам,
те ж изделья из резины,
те ж фанерные призывы,
клики да колонны,
втыки за уклоны,
та же чушь контор,
тот же чувств картон
и один язык
для народа: ЗЫК…
И как безысходная тоска тоталитаризма:
И не было щели,
куда бы забиться,
и не было дела,
в котором забыться.
Нечеловеческая мораль, сложившаяся в нашей стране задолго до большевисткого ига, породила двойную мораль, двойное зрение, двойное понимание, двойное мышление. Может быть, эта двойственность и есть — подлость? И по причине этой врожденно-вмененной подлости всё делать, и думать, и видеть, и понимать наоборот никакие благоразумные идеи и реформы, будь то гражданское равенство или социальная справедливость, демократия или рынок, патриотизм или главенство закона — ничего здесь не проходит не извратившись, не вывернувшись до противоположности, хотя бы уже потому, что и сами идеологи и реформаторы —носители укоренившейся подлости и двуличия:
Скажу: до того приобвыкся народ,
что сразу все делал он наоборот.
Приладился он рассуждать от противного:
ругнут кинофильм — поспешит на картину он;
облают роман — значит, можно читать;
похвалят кого — значит, химик и тать;
слова заглушают — знать, мысль хороша…
Нет, положительно, умение читать между строк и противоположно написанному далось нам не даром и теперь мы платим за это не только собственной аморальностью, но и обилием кукловодов нами, балаганными Петрушками.
Вожжи бы делать из этих вождей,
лучше бы не было в мире вожжей!
Провидения
Интересно, кем бы работал Герцен Копылов, случись перестройка и последующее недоумение на двадцать лет ранее? — все тем же физиком? депутатом? эмигрантом? — Но, как всякий настоящий поэт и честный ученый, он очень точно предвидит будущее. Много ли еще таких пророчеств а наших временах было сделано на стыке 60-70-х?:
Увидала власть, что дело худо,
что налоги не поступают ниоткуда,
что спасти ее может только чудо,
что все запасы скоро она съест —
и решила созвать народный съезд.
Привела в действие аппарат,
провела местные выбора,
потом районные,
потом удельные,
покритиковала себя за отдельные,
и в обстановке всенародного,
в условиях свободного
(и так далее, не стоит тратить времени на цитаты)
выбрала себя в депутаты.
Резонанс личной истории и истории страны переходит в поэме границы жизни и то, что поэт писал когда-то, стало его реальностью, реальностью его смерти как послежития:
Ведь одно из ценных качеств
наших нравов и традиций —
в том, что, даже мертвым значась,
можно, как живой, трудиться.
Вот, он и трудится, и печатается, и читается.
Геометрия поэмы физика
“Четырехмерная поэма”, мир Минковского, где трехмерное пространство несется во времени, скроена Герценом Копыловым, физиком, в геомертическую гримасу. Оси этого пространства невекторальны: время (ось Т) скачет здесь по ухабам прошлого, настоящего и будущего, можно сказать, совсем без дороги, и нас заносит во все времена довольно неожиданно; ось Y (Любовь) — щемящая петля, ось Z — утлый затихающий в многоточии пульс власти, ось X — квадрат тюрьмы закрытого Задвинска-Дубны, совершенно инородного окружающей среде, узилище среды обитания советского “технополиса”, затхлое гноилище отечественного интеллекта во имя уничтожения всего человечества.
Ну, а теперь всё вместе — любовь, тюрьма, власть, ухабы истории: “Эх, тройка!” — и мы слышим гоголевский изумленный гимн стране, обезумевшей в дикой скачке, полной щемящей любви и духовности, загнанной трудом и по тюрьмам, в жестоких вожжах самовластья и беззакония. Куда несемся?
Алёну из “Полета в невесомость или дневника Изи Вайсброта” я даже знаю. Мы мотались с ней по барам и притонам вечно вечернего Сан-Франциско, пешкодралом перли сквозь Манхеттен, пили пиво в подвортнях Маленькой Италии огромного Нью-Йорка, глотали сигаретный дым на парапете станции метро “Академическая” — любимой точке встреч моих с Геннадием Копыловым.
Её зовут иначе. Её звали “Восемь с половиной” — те восемь, что были арестованы на Красной площади за протест против вторжения в Чехословакию, выкинули её из своей среды: девчонка только кончила школу и уже сдала вступительные экзамены на истфак МГУ, те восемь, идя на заклание, выпихнули ее и спасли от тюрьмы.
Кстати, по ней можно реконструировать одну из версий, что стало бы с Герценом в наши дни, но только одну — в отличии от трудяги и профессионала Герцена, “Алена” аскезой трудолюбия никогда не страдала. Она свободна.
Её свобода на птичьих правах. Она читает взахлеб, почти все подряд, и вяло борется за существование. Цинична до искренности. Медлительна и привлекательна, как утомительный сон (“и подушка ее горяча”). Ей нравятся стихи, которые ей пишут, но стихов больше никто не пишет — вообще, и для неё в частности.
Исполнение сыновьего долга
Геннадий Копылов (вкупе с К.Любарским) дал “Четырехмерной…” блестящие и исчерпывающие комментарии, сделавшие текст прозрачным и понятным самым современным читателям. Многое проясняют и дают также дополнения, вскрывающие историю создания поэмы.
В современном русском языке слово “отечество”, “отчизна” намного менее употребительней “родины” по той простой причине, что “родина” ассоциируется с материнской заботой о нас, ее малых и безответственных детях, а “отечество” — с ответственностью взрослого человека за свой дом и свою страну, за порожденное и сотворенное.
Вот я уже давно отец и дед и перегнал по возрасту своего отца, а Геннадий Копылов, отец троих детей, ушел, не достигнув даже лет своего отца, рано ушедшего. У всех у нас — одна родина, но очень разные отечества, если вдуматься. Пора, давно пора нашему поколению говорить свое последнее отеческое слово, как сделало это поколение наших отцов.
Спор отцов и детей, становящихся отцами, продолжается во взаимных несогласиях, недопониманиях и проникновениях. Отцы наши, давно умершие, но так и не ушедшие от нас, небезгласны и честны. Послушаем, что говорит нам Герцен Копылов.
 Приложение.
Приложение.
Геннадий Копылов: Послесловие сына
О том, что мой папа — физик и что он пишет стихи, я узнал лет в пять. Он тогда написал для меня цикл про Борю-капитана, который я с удовольствием запомнил наизусть, скорее всего — во время долгих лесных велосипедных прогулок, сидя на переднем сиденье нашего черного «Харькова».
Выросши до отроческого возраста, я прочел его «Евгения Стромынкина» — сразу после «Евгения Онегина». Потом, по глухим упоминаниям (вроде: «Как, как называется эта песня Галича? «Концерт для голоса с балалайкой»? Ну и ну — прямо как моя поэма!»), я понял, что у него есть еще одна, то ли скрываемая, то ли неподходящая для детского чтения. Набравшись храбрости, я попросил у него “Четырехмерную поэму”, прочел — и был сходу покорен и зачарован.
Она восхищала остротой и остроумием. Тенью любимого Салтыкова-Щедрина, витающего над каждой страницей. Фантастическим поворотом сюжета, греющим юношескую душу. Резким витийством. Бесподобными каламбурами. Сциентизмом, с которым я тогда носился. Ненавистью к властному невежеству и безмыслию. Это был концентрат «Понедельника начинается в субботу», «Архипелага ГУЛАГ» и «Истории одного города». А дубненские реалии? А ощущение причастности к запретному? Шестнадцатилетний мальчик вдруг оказался в том эпицентре, где творилась история и литература (я был убежден, что самое-самое происходит в андеграунде, а не на виду). Жаль, что своим восхищением невозможно было ни с кем поделиться…
Вскоре после этого, 26 марта 1975 года, папа отмечал свое пятидесятилетие. Он читал гостям отрывки из «Стромынкина» и «Поэмы», Юлий Ким декламировал стихи про Борю-капитана с такой интонацией, что они казались густейшей антисоветчиной. А я подарил папе иллюстрации к машинописному изданию «Четырехмерной». Мне нравилось все, что он делал, и я по мере возможностей старался включиться.
В детстве я с удовольствием раскладывал экземпляры рукописей, потом — вписывал формулы, потом — ставил точки на графики. В десятом классе прочел с карандашом в руках его популярную книгу «Всего лишь кинематика» (потом это очень помогло мне, когда в 1981 в «Библиотечке «Кванта»готовилось ее второе издание»). Как только научился ФОРТРАНу, сразу же начал получать от него вычислительные задачи (мы ходили учиться в ВЦ дубненского Объединенного института ядерных исследований, тогда это было редкостью). Было очень приятно читать в конце его препринтов благодарности «to G. Kopylov, Jr.» за проделанные расчеты. Его похвала окрыляла.
Однажды папа долго разбирал со мной одну школьную алгебраическую задачу, а я все старался закончить это дело поскорее. Он расстроился от такой моей несерьезности, и написал статью про все те интереснейшие вариации, которые он с азартом наоткрывал в простенькой задачке. Статья — потом ее опубликовал «Квант» — была в виде диалога, и нерадивый школьник имел мой инициал, а толковый — инициал моего друга. На этот раз было обидно.
Но он, как я теперь понимаю, зря волновался: я жадно впитывал его отношение к жизни, к работе, к людям. (Другое дело, что признать это тогда, в шестнадцать, было выше моих сил.) Он был для меня сверхавторитетом. От одного его слова мне могла разонравиться одноклассница или книга; его рекомендации по чтению были для меня первостепенными; его мнение по поводу внешней и внутренней политики СССР элементарно перебивало пропаганду; его житейская нравственность была для меня безальтернативной. Как вообще можно жить иначе, чем он? Не знаю, понимал ли он это, но влиял он на меня всегда точечно, ни в коем случае не пережимая. Потому-то, наверное, все эти случаи врезались в память как микроперевороты, ступени.
Он передал мне отвращение к насилию, страсть к умствованию, к интеллектуальным задачам, к книгам, любовь к детям. Принцип неучастия во власти — его влияние; теперь, когда я это понял, карьеру делать уже поздно. По его одному-единственному совету я, быстро почувствовавший вкус к программированию, не стал им заниматься профессионально: «Это же только инструмент» — сказал он. — «Нельзя же всю жизнь изучать свойства логарифмической линейки». Этого мне хватило.
«Мне лирика не по плечу» — он знал это про себя точно. Любовные сюжетные линии и в «Стромынкине», и в «Поэме» точно отражают то целомудренное отношение к женщине, которое сформировалось у него со студенческих лет. Он не чувствовал оснований изменять почти пуританским нормам жизни послевоенной интеллигенции. Тут я тоже его — счастливый или несчастливый? — наследник, такой же наивно-убежденный семьянин.
Он подарил мне вкус к походной, неприхотливой, беспричинно счастливой жизни, к дальним велосипедным и байдарочным вылазкам, к укостровым беседам. Я научился печатать на машинке, чтобы плодить его стихи… Он любил переводить (Я.А.Смородинский взял его в команду переводчиков блестящих «Фейнмановских лекций по физике») и ценил это умение в других — перевод был моим первым приработком и стал одной из профессий. Если я что-то понимаю в переводческом ремесле (и в английском языке), то произросло это из семян, им заброшенных.
Гипертрофированная честность, отсутствие житейской хитрости — тоже его черта. В году 66-м он взялся разоблачать то ли сознательного жулика, то ли просто чего-то недопонимавшего дубненского физика Б., который с помощью своего метода открывал одну новую частицу в неделю. Папа на ЭВМ сгенерировал случайную серию распадов, где никаких новых частиц не могло быть в принципе, и на ней тоже сделал много открытий по методу Б. На семинаре Б. был посрамлен, но статья об этом сравнении света не увидела — ее зарубили более прагматично мыслящие начальники. Зато мне, восьмилетнему, он рассказывал все — и про ЭВМ, и про распады частиц, и про имитацию по методу Монте-Карло, и про то, что такое честность и научная добросовестность. А про завернутые статьи не рассказывал — он не стремился разоблачать и «открывать глаза». Рядом с ним они раскрывались сами.
cА вот еще. Классе в одиннадцатом наш гениальный учитель английского, Давид Белл, устроил нам «марафон». Были разные задания, день за днем, выставлялись баллы, висела большая таблица, и у меня были шансы на что-нибудь призовое. Очередным заданием Давид Натанович поставил домашний перевод полустраничного текста. Я начал его делать, подошел папа, посмотрел, спросил, что это. Я объяснил, он увлекся, я тоже, мы начали переводить уже по-настоящему, и сделали дело хорошо. Опомнился я только, когда увидел чистовой листок с переводом его почерком — это же было олимпиадное задание! Сдавать его теперь было нельзя… Папа страдал не меньше меня — по собственной дурости и увлекабельности мы с ним запороли мое участие в соревновании. Ничего не оставалось, как назавтра публично в классе объявить Беллу, что я схожу с дистанции. Он, конечно, расстроился. Но папа позвонил ему, все объяснил и извинился. Ах, как жаль до сих пор того марафона!
Уже понятно, как он любил возиться со мной и с сестрой. «Возиться» — именно это слово он употребил в своем дневнике, который я прочел много позже. В тот день ему удалось, немного сосредоточившись, додумать что-то интересное, и он сокрушался, сколько времени проходит даром в разных побочных делах, или когда он «возится» с детьми. Но, по-моему, он просто не мог иначе. Учительство, иллюминатство было у него в крови — недаром в детстве он мечтал быть только учителем, недаром разбор задачки со мной он превратил в статью для всех желающих. Он с увлечением работал в Вечерней физматшколе при ОИЯИ, писал — «неожиданно для себя» — популярную книгу по ядерной физике, начал рукопись «Квантовой механики для школьников». Если он что-то понял, то он должен был объяснить это другим, а лучше всего детям: они легче могут зажечься, могут проникнуться этой неземной красотой самого процесса понимания, когда перед тобой внезапно распахиваются новые миры…
Мой папа умер, когда мне было восемнадцать, и уже почти четверть века я живу без него. Живу с тем, что он мне оставил, с тем, что я взялся поддерживать и хранить. Понятно, что это не основное содержание моей теперешней жизни, и эта лента давно превратилась в ниточку — но ниточка, кажется, не порвалась…
Недавно я нашел на задней полке «451 по Фаренгейту» Брэдбери и взялся перечесть, вспомнив, что в конце школы читал ее жадно и часто. Конечно, я все перезабыл: имя героя, имя девушки, сюжетные ходы. Но поразило меня неприятно, вспучило неизвестные для меня самого пласты души — то, насколько эта книга меня запрограммировала, определила мои действия на много лет вперед. Я, простак, и не подозревал, до какой степени тогда, в отрочестве, отождествил себя с ее героем. Да что с героем — с ее героикой!
Напомню сюжет: техно— и медиакратическая страна. Человека в ней стремятся оторвать от любых культурных детерминант его существования и целиком подчинить мыльному телевидению и рекламе. Злейший враг — книги, они позволяют задуматься или замечтаться неподконтрольно; их жгут пожарные. Главный герой — пожарный Монтэг. Однажды, сжигая книги, он прячет томик, оказывающийся Библией. Он успевает прочесть только Экклезиаст — его разоблачают. Дом его уничтожают, жена бежит в панике, он сам спасается чудом от публично-интерактивной облавы. И оказывается среди бродяг, лесных жителей, каждый из которых хранит книгу, помня ее наизусть. Так Монтэг становится Экклезиастом.
Оказывается, не я читал эту книгу — это она меня писала, формировала каждым своим словом. Брэдбери писал о книгах, обысках, сожжениях, а я читал: «тамиздат», «донос», «диссидент», «глушилки», «КГБ». Пустейшее TV и идеологический контроль проецировались почти автоматически на советское телевидение, отрезанность от прошлого — на жизнь за железным занавесом. И хотя, как теперь понятно, это был взгляд увеличенными от «общего страха» глазами, важно было именно не поддаться ему до конца. Как? — спасение, самостояние было в отказе от прожеванной вышестоящими товарищами жвачки, в серьезном чтении, в том, чтобы в жестких обстоятельствах превратить себя в Хранителя (Жаль, что Толкиен дошел до нас только через лет пятнадцать — ух, мы бы в нем все поняли про Тьму С Востока и про испоганенный Мордор!). И когда эти обстоятельства пришли, я стал хранителем в полном согласии с впечатавшейся в меня схемой.
В тот же августовский день 1976 года, когда папа не пришел в себя после третьего инфаркта в дубненской больнице, почти в тот же час, я собрал чемодан с крамольными книгами и рукописями и отнес его самому верному и не замешанному ни в чем таком человеку, какого я знал. Я спешил потому, что не представлял себе, есть ли еще где-нибудь или у кого-нибудь хоть один экземпляр «Четырехмерной поэмы». (За «Стромынкина» я не беспокоился — я знал, что он известен, что у папы есть масса сокурсников, у которых есть копии. Да и вообще «Стромынкин» по тем временам была вещь безобидная.)
А вот «Четырехмерная»… В восемнадцать лет я практически не знал папиных московских диссидентских знакомых. Не представлял, у кого вообще можно спрашивать про столь злонамеренную Поэму, идущую под псевдонимом Оскар Биттель. И если бы наши экземпляры были изъяты, потеря была бы, кажется, непоправима. (Потом Юлий Ким мне вскользь сказал, что его копии еще в начале семидесятых пропали в КГБ). И приходилось хранить ее изо всех сил.
Через год со всеми предосторожностями я наговорил Поэму на магнитофонную пленку и по ней вызубрил наизусть (я знал, что так мне учится лучше всего). Если бы тогда уже были плейеры, я бы учил Поэму в метро, но я повторял ее так, в пустых местах вслух, не реже раза в месяц. Гарантия теперь была почти полная.
Летом 1985-го, когда в стране что-то микроскопически стало сдвигаться, я сделал машинописное выверенное полное собрание сочинений Г.И.Копылова, переворошив весь архив; теперь я мог сравнить варианты, уточнить даты, просмотреть черновики. Тогда же я обнаружил многое из «совсем уж рукописного»: начатые воспоминания «Не обобщай меня без нужды», стихотворения, отрывки… Я собрал, теперь уже познакомившись с папиными друзьями, несколько десятков писем. Тогда же начал прикидывать и узнавать, кому бы можно было передать рукописи на Запад — в виде черно-белой негативной фотопленки, конечно. Где ты был тогда, интернет XIX века?
Передать было с кем, и это было нетрудно. Важней было понять, кому. Поэма и Стромынкин — это не лирика, и не обычная публицистическая антисоветчина. Это — сайентистская сатира; не каждый возьмется ее читать, и не каждый — издавать. Наконец, я вспомнил о Валерии Турчине, редакторе сборников «Физики шутят» и «Продолжают шутить» (1964 и 1967 гг.); в последнем печатался папа, и у нас был экземпляр, подписанный по кругу четырьмя редакторами. Турчин о Копылове знал, это было ясно, и мои посылки отправились к нему.
Через год пришли сведения, что все пленки, — Поэма, Стромынкин, публицистика — сосредоточились у Кронида Любарского, соредактора мюнхенского издательства «Страна и Мир». Ни о нем, ни об этом издательстве я тогда ничего не знал. Но то, что тексты попали к Крониду, было не менее чем чудом: он, оказывается, знал наизусть «Стромынкина», который скрашивал ему заключение и лагерь; и он тут же взялся за издание толстого тома. Кое-что — например, воспоминания Юлия Кима, Марка Харитонова, Георгия Федорова — я присылал ему уже прицельно. Том этот вышел в 1990-м, в 1995-м Кронид вернулся в Москву и работал в «Новом времени». Мы с ним начали готовить второе, дополненное издание. А в 1997 он погиб. Архива «Страны и Мира» больше нет, и то издание так осталось сугубой редкостью. И только теперь, благодаря О.Мельникову, обе поэмы снова выходят вместе.
Опубликовать отца в России тоже очень хотелось. С года 1987-го я принялся осаждать журналы, издательства, известных литераторов: кто заинтересуется, возьмет, порекомендует к публикации… КПД всей этой деятельности оказался крайне низким, руки у меня то и дело опускались, но около пяти-семи публикаций пробить все-таки удалось. А сколько интересного мне пришлось при этом переузнавать!
В журналах «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь» были рубрики типа «Литературное творчество ученых», и туда я отдал небольшие подборки стихотворений и отрывков. Они были приняты на ура, и эти публикации довольно быстро состоялись. Один из редакторов «Х и Ж» начала работать в новооткрывшемся ежемесячнике «Совершенно секретно», где благодаря ей была напечатана публицистика отца. А вот в журнале «Юность», куда я отдал «Четырехмерную поэму», заявили, что я опоздал — к 1988 году, по их мнению, она была уже недостаточно острой. В 1991 году «Знамя» опубликовало большой отрывок, примерно десятую часть, «Четырехмерной», но эта публикация канула в никуда — как раз тогда толстые журналы перестали читать.
Вообще, критики у этих публикаций не было никакой. За одним исключением: ведущий критик Р. в одном из своих обзоров в «НГ» 1991 года откликнулся на мюнхенское издание, процитировав пару четверостиший и заявив, что трагедия Г.И. Копылова в том, что он работал в одиночку и существовал помимо литературного процесса.
Да-да, он мне говорил что-то похожее за пару лет до этого, когда возвращал папины рукописи. Я передавал ему их в надежде получить рекомендацию или хотя бы совет — какое из издательств может заинтересоваться «Четырехмерной». Энтузиазма у него эти тексты не вызвали. Он стоял на страже интересов Большой Русской Литературы, и не счел поэмы достойными к рекомендации.
И вообще, на страже чьих только интересов не оказывались те, кого я просил что-то сделать для публикации! Сейчас это лишь забавно, а тогда давало массу пищи для переживаний… Издательство «Наука» готово было опубликовать Г.И.Копылова, но по очень хорошей рекомендации. Я отправился к академику М. Да, он помнил и любил «Евгения Стромынкина», но…
«Что за текст вы мне дали?… Я в студенчестве восхищался такими строками:
И сделалась совсем иною
младых филологинь краса —
улыбка томной, чуть хмельною,
все испытавшими — глаза.
А здесь этого нет. Нет. Нет, я не могу ничего сделать. Извините!»
Конечно, этого четверостишия не было: я хотел опубликовать текст последнего прижизненного издания — папа его сделал году в 1974 — а М., конечно, помнил первое, ходившее под псевдонимом (Георгий Исаев). Он встал на страже Своего Стромынкина.
Столь же нетривиальными оказались доводы «contra» профессора О. из московского института И. (кстати, оказалось, что один из экземпляров «Четырехмерной» хранился с самого начала у него). В папиной неоконченной автобиографии, которую я подготовил тогда к публикации, была совершенно проходная, ничего не значащая фраза: «ОИЯИ — один из лучших институтов, которые я знаю». Профессор О. продемонстрировал мне данные по индексам цитирования: на работы, сделанные в И., ссылаются в 10 раз чаще, чем на работы ОИЯИ. А потому, стоя на страже интересов Родного Института, рекомендовать он ничего не может.
Зато позиция «Архимеда» мне вполне понятна. «Архимед» — это студенческий театр Физфака МГУ 50-60-х годов, оттуда — песня «Дубина» и прочие вершины физического фольклора. Его активисты в основном работают в Курчатовском институте. Они проводят юбилейные концерты, издают в меру сил свои сборники и т.д. Они числят «Стромынкина» одним из образцов физического искусства, и даже признают канонический (1974) вариант поэмы. На этом их интерес к творчеству Г.Копылова заканчивается. Приватизировав свою часть его биографии, они не обращают внимания на все остальное. Но «свою» часть они знают замечательно — подробнейшие комментарии А.Кессениха к публикации «Стромынкина» в журнале «Вопросы истории естествознания и техники» (1997 г.) уверенно вводят первый вариант поэмы в круг документов новейшей истории физики, МГУ, идеологической борьбы в СССР 50-х годов.
К счастью, многие и многие друзья и коллеги отца приняли горячее участие в сохранении его литературного наследия. Я уже назвал некоторых их них, а еще очень помогли в разные годы Т.Баева, Б.Болотовский, Б.Васильев из Дубны, Ю.Данилов, Ю.Диков, В.Левин, А.Левинтов, Вл.Любошиц, Я..А.Смородинский, Е. и В.Тарасовы, М.Подгорецкий, Е.Фейнберг, М.Харитонов. Когда писатель Марк Харитонов прочел впервые «Четырехмерную» — он не был знаком с ней раньше — его поразили строки:
Ведь одно из ценных качеств
Наших нравов и традиций
В том, что даже мертвым значась,
Можно как живой трудиться.
«Как он угадал про себя?» — сказал он. В Поэме это относилось к Платонову, Булгакову, и на такое сопоставление я не решался. Но папа действительно вставал передо мной как живой — из рукописей, которые я находил и разбирал, из писем, которые передавали мне его друзья, из тех отрывочных воспоминаний, которыми они делились.
«Я поздно начал» — писал он в дневнике. Действительно, с 1949 по 1956 год, когда отцу было 25-30 лет, он не занимался физикой, а преподавал в женской школе родного Днепродзержинска — поселка Каменки («Здравствуй, город Знаменка… вы, говорят, не коренной» — это из «Четырехмерной»). Только в 1956 ему помогли устроиться в Дубне, и лет пять его научные успехи были слабыми. Он нащупывал путь, заново учился, вставал на ноги. Он встал — но сталинский СССР отнял у него десять лет плодотворной жизни.
А потом — прямо-таки взлет: 1963 — метод моделирования многочастичных распадов, 1964 г. — кандидатская диссертация, перевод «Фейнмановских лекций», 1966 — популярная книга, признанная лучшей в году, 1968 — докторская, 1969 — монография, ставшая сегодня классическим учебником, 1970 — «Четырехмерная поэма». Восемь лет зримых научных и просто творческих, человеческих успехов. А еще — близкое знакомство с московскими диссидентами и поэтами, самиздатская публицистика под псевдонимом Семен Телегин (вдохновившая Солженицына на «Образованщину» — кстати, Телегин был обозван в ней «весельчаком и атеистом»). А еще — любовь к той, которая стала музой «Полета в невесомость»… В сорок лет он пережил не кризис, а подъем.
Когда я, оглядываясь на его жизнь, увидел воочию этот период успехов и удач, мне стало страшно: смогу ли я так в сорок? и самое главное: понимал ли он, что он выходит к новым рубежам? Оказывается, понимал: поздно найденное в рукописях и написанное еще чернильной ручкой стихотворение «К самому себе» — как раз об этом:
Больно все просто, слишком все ясно,
словно для взрослых — детские ясли,
словно влип ты, друг, в бесконечный круг,
впрямь левитом стал, деловитым стал:
сочинил статью, подзубрил Четью,
сотворил обзор, подзакрыл бозон,
поломил горбом, предложил прибор,
ни случайных штук, ни скучальных скук,
все известно, все размечено,
дело есть, а делать нечего.
Шел я точно, не сворачивал,
темпы мощные наращивал:
может было так и надобно —
напрямик ломить по надолбам,
взять науку как Бастилию,
ухватить подход и стиль ее,
ощутить ее покорною,
встать, как на плиту опорную…
А теперь над твердой почвою
я себя другим попотчую.
Раз уперся — разогнусь-ка я!
Ты прощай, дорожка узкая!
Я пойду другими румбами,
непродуманными, трудными […],
завернусь плащом, поведу плечом
и пойду на свет. Пусть мне смотрят вслед.
Пойдя «другими румбами», он не стал «практикующим диссидентом»: он был боязлив, наивен и бесхитростен. Но тайны у природы вырывал смело, мысли — додумывал до конца, антисоветчину — писал и распространял, значок с израильским флагом во время Шестидневной войны — носил, письма — подписывал, деньгами — помогал, а его речь на могиле Ильи Габая вспоминают все, кто ее слышал. А я вспомню слова профессора Д.С.Чернавского на папиных поминках: «Гера был рыцарем правды. А правда по-русски — это и «истина», и «справедливость»».
Но эта внутренняя боязнь, постоянное жизненное напряжение под пятой власти проявилось самым роковым образом после начала сердечной болезни. Он и на операцию коронарного шунтирования не лег потому, что боялся — не операции, а беспомощности на столе перед всевидящим КГБ. Можно ли сказать, что брежневский СССР отнял у него саму жизнь?…
Заканчиваю. Пусть теперь выскажется он сам: перед вами — избранные места из его писем к Т.Баевой (в Москву) и И.Габаю (в кемеровский лагерь)
1967 г. (к Т.Баевой)
«…входишь в дело со страшным скрипом, противясь ему, возвращаясь то и дело к конкретным, явным делам будничной жизни. И вдруг: словно щелчок в голове, все вспомнилось, все стало вновь интересно, и вот уже через месяц машина работает вовсю: отдохнувшая голова выдает идею за идеей, руки пишут, спина кряхтит, но тянет….»
Октябрь 1968 г. (к Т.Баевой)
«…В творчество втягиваешься исподволь, долго и мучительно вырабатываешь в себе метод поиска, а потом, освоясь, обнаруживаешь, что жизнь твоя несхожа с общепринятыми нормами, что в тебе свой огромный мир, лишь своими краями соприкасающийся с людьми, и было бы тщетно пытаться объяснить другим, что это за мир, он умрет вместе с тобой; и у каждого ученого он свой; можно бы возразить, что у каждого человека и так свой мир представлений. Но разница огромна: мир простого человека ясен и по возможности определен, он пронизан действительностью по многим-премногим линиям. А здесь мир независимый, воздвигнутый лично тобой на свой страх-риск, полный неизвестности. Ты сам, как господь-бог перед сотворением мира, полон боязни ошибиться и решимости воздвигнуть. А родные твои потом говорят: «он у нас опять чего-то открыл».
Октябрь 1968 г. (к Т.Баевой)
«…Прочел я у Паустовского такое: «Почти каждый уходит из жизни, не совершив и десятой доли того, что мог бы совершить». И осознал, что я — не почти каждый. У меня нет чувства несвершенной десятой части. И если бы пришлось мне сейчас уходить из жизни, было бы чувство иное: что ухожу, свершив куда больше, чем положено мне на роду. В юности цель моя была проста и определенна: научиться математике и учить ей детей. И так и было бы, потому что цель эта нетрудна. А для души цель была другая: решать задачи потрудней. И это было вполне осуществимо. Это и есть то, что я должен был совершить. Вместо этого я попал в Москву, решился стать физиком, зная, что к физике у меня таланта нет; а став учителем, вскоре бросил это и подался в ученые. И все мои полсотни статей, полдюжины новых методов званий и открытий — незаконны, их не должно было быть, и ощущение этой незаконности, необязательности никогда меня не покидало — словно меня занесло чересчур высоко, где в жизни должны участвовать совсем не такие, как я. Понимаешь: говорить о десятой доли может лишь тот, кто чувствует в себе силу сделать вдесятеро, только развернуться нет возможности, — кто носит в себе груз таланта — а у меня нет этого чувства, наоборот — я делаю в 10 раз больше того, что мне отпущено природой. Я уж не говорю про стихи — занятие по моим данных абсолютно незаконное, непредусмотренное, графоманское. Все написанное по этой линии — явное нарушение «закона одной десятой», формулируемого Паустовским. В этом смысле вся моя жизнь — наука, поэмы, друзья-москвичи — сплошное перевыполнение плана, сплошная неоправданность. И счастлив я сверх программы.»
1969 г. (К Т.Баевой)
«…Как я живу? Науку забросил совсем, старые темы прикрыты, новые в голову нейдут — пуст, как барабан. Зато занялся стихами, и переделал многое из того, что хотел, конец уже близок: сел я на мель на стихах о любви, они не даются, выпадают из стиля, а и без них нельзя. Еще раз передумал мои стихи и приемы: все же они необычны, неподражательны, как хочешь — в нормальных условиях они имели бы сторонников и противников, последние их вообще не считали бы поэзией, первые учили бы наизусть, цитировали, подражали. Сильней всего у меня чистая сатира — ее-то я, к жалости своей, часто оставляю ради серьезности — и зря. А про любовь вовсе не идет, до отчаянья! Получается неплохо бытописание. Все вместе — пища для размышлений, во всяком случае есть новизна в приемах (даже в чистой сатире, например, прием «самокритики», когда критикуется общество путем критики самого себя), в способе рифмовки (заударная рифма), и уж конечно, в тематике и концентрации мысли, в широком пользовании подтекстом. Нет, надо двигать это дело…»
«…Лет 10 назад, когда я не знал своих возможностей, я мог жить как все, без недосягаемых целей — работа, дети, семья, статейки — и в таком качестве мог обойтись без музы… Я начал понимать, что у меня есть предназначение и не выполнить его было бы преступлением перед собой. Еще недавно мне казалось, что с достижением известных степеней в науке я подошел к потолку и дальше можно только идти по горизонтали. Но … я понял, что только начинаю свой путь. Что еще не известно, какие поэмы я напишу, какие еще слова скажу, не сказанные прежде, до каких мыслей дойду, скольких людей подыму с коленей своим примером. Я понял, что могу, обязан попытаться что-то сделать ради всех, что во мне есть что-то, чего нет у других, и это «что-то» должно быть выявлено…»
«…Я с удивлением заметил, что само собою, постепенно, явочным порядком мое положение в Лаборатории изменилось. В лучшую сторону. Раньше я многие годы работал в одиночку. И вдруг сами же окрестные физики пришли к тем же задачам, которые я многие годы в одиночку решал и исподволь не спеша продвигал. Пришли, занялись ими и стали ко мне ходить: за советами, показать результаты, найти ошибку и т.п. Я отвечал, смотрел, сочувствовал, помогал. То есть активно сотрудничал: думал над их вопросами и тогда, когда они уходили, предлагал свои идеи. Просили сделать доклад — делал. Ввязаться в спор — ввязывался. И вдруг обнаружил, что связан десятками нитей с самыми разными людьми, и уже могу сам им раздавать задачи, и они берутся, потому что эти задачи живо касаются их работы, они б их сами поставили, если б вовремя додумались. И оказалось, что моя давнишняя проблема — кто бы помог реализовать пришедшую в голову идею — все больше перестает быть проблемой, вот уже три независимых группы, одна из них большая и разветвленная, делают то, что мне хотелось бы. При этом никаких официально утвержденных контактов у нас нет: полюбовный брак (в обоих смыслах?), товарищеская работа. Начальство? Оно даже не знает о моей разветвленной сети агентов, соавторов и сотрудников. П<одгорецкий>, мой непосредственный начальник, не имеет об этом никакого понятия, и когда недавно ему в мое отсутствие пришлось отвечать на вопрос, что я делаю полезного для института, стал в тупик, сказал, что моя деятельность не связана с работой института и чуть было не вытурил меня с работы. Не имеет понятия не потому что я скрываю, нет, все на виду, но ведь у нас деятельность начальства и просто работа проходят параллельно друг другу, не мешая и не влияя. А другое начальство, что повыше, тем более не замечает. Меня это не трогает, «минуй нас пуще всех печалей…»
Работается очень приятно, словно добавочные руки у меня появились, каких раньше не было, а от многих рук и в голове много больше идей. Я думаю, если так будет продолжаться, и если начальство не задумает урегулировать наш труд, то за 2 года можно будет вывести нашу лабораторию в той области, которой я занимаюсь, на уровень мировых стандартов, и вырастить 5-10 грамотных физиков. Наше несчастье — невежество, провинционализм в науке, кустарщина. Исподволь некоторые группы вырываются вверх, не из-за своих способностей, а лишь благодаря дружной работе и трудным задачам. Вот и у нас сейчас намечается возможность дружной работы.»
«…А занят я был стихами. Как всегда, после удачного финала трудного стихосложения по инерции идет новый стих. Так и было: прицепился я к одной невнятной концовке одного четкого рассуждения и вспомнил, просто так, словечко на днях услышанное, а прежде я его не слыхал. И нашел на него рифму. И стал ясен строй стиха, который из этого выйдет. И в скором времени возникло и само творение. За два дня я его уже четырежды переписал, каждый раз переделывая наново, и вот уже близок к желаемому концу. Еще разок-другой приступлюсь, авось докончу. И сегодня, бегая на лыжах, я все бежал в ритме этого стиха (а у него 2 ритма) и в конце концов стал на ходу сочинять, аж голова зашлась: однообразные солнце, река, лыжня, движения — и ритм. Но добрел до дому, залез под душ, отошел.»
17.12.70. (К И.Габаю)
«Грустно мне в Москву приезжать. Уж лучше в науку нырнуть: безотказно действует. Никакого обмана. Никакого вероломства. Отзывчива на любовь. Если молчание, то без тайных мыслей — просто ждет того, кто поймет ее, а за понявшим ее секрет идет без ропота. Чем глубже, тем интереснее; нет опаски, что дойдешь до такой глубины, что дальше уже ничего не останется; нет боязни разочароваться.
Сейчас идут годовые отчеты (в любви к науке)… А я оглянулся и увидел, что хотя с мая работаю как заведенный, но ничего не сделал почти (1 статья). То, что я в уме прошел путь больше, чем в другие годы за 5 лет, это не в счет, важны итоги, а… они в голове…. Или решиться выпускать недоделанное? … Когда замахнулся на крупное, то тут уж промашку делать не должно…»
17.4.71. (К И.Габаю)
«Идиотизм дубненской жизни — помесь башни из слоновой кости и местечка из черты оседлости, где все начинается с нереальности решаемых задач (ведь они берутся из воздуха, материализуются из ничего, из безумных идей новой науки и бездарных им подражаний ученой массы) и кончается нереальностью существования в отрыве от большого мира (когда с какого-то момента чувствуешь, что живешь в термостате, что ты уже в состоянии окончательного равновесия, что остатки чувств — это флюктуации, они угасают на глазах, что все уже изведано, все сочетания перебраны, все разговоры слышаны). Пропадает ощущение реальности…»
* * *
Я вспоминаю о нем, и у меня тоже пропадает ощущение реальности: папа — он рядом, близко, здесь. Кто знает, может быть, и читатели почувствуют рядом с собой тень — или хоть намек на тень — этого веселого, честного и талантливого человека.
Окончание
___
[i] Эта часть очерка в первой редакции была опубликована в 1999 г. в альманахе «Лебедь»



Спасибо!
Я знал Герцена Исаевича по Днепродзержинску, когда он преподавал математику в Индустриальном техникуме. Это был изумительный человек, который служил для меня примером. Он был чудесным учителем и душевным человеком. Я написал о нём воспоминания «Мой любимый учитель», которые опубликовал на сайте Проза.ру.
Светлая ему память!