![]()
Светлана Сокольская
Очерки воспоминаний
 Шолом, Шлима и дедушка Калинин
Шолом, Шлима и дедушка Калинин
Старшая из всех маминых сестёр, тётя Шлима, была незаурядной женщиной.
Молодых её фотографий у меня не сохранилось, но в зрелые годы она была привлекательна благородной еврейской красотой, приятной дородностью тела и всегда модным по тем временам платьем. И ум её был неординарным. Она была великим дипломатом, и была не лишена артистичности: если нужно было смеяться — она смеялась, если нужно было плакать — она плакала. Она умела заработать деньги, и умела щедро их тратить: по любому поводу устраивала застолья, которые мне казались пирами. Её фиш, холодное и штрудл были приготовлены настоящей еврейской хозяйкой. Я её помню всегда в работе: неустанно стирала, вытряхивала, варила, пекла или вышивала на швейной машине салфеточки на продажу. Но также любила и умела поговорить, и тут мне открывался мир её чувств, который я тогда по молодости и не предполагала в уже пожилой женщине.
Ещё у неё была одна особенность — она любила лечиться, ездить по врачам и пробовать на себе все новинки тогдашней медицины. В отличие от бабушки, не нуждавшейся в синагоге, моя тетя была религиозна. Она вместе с сестрой ходила, как она объясняла, в подпольно организованную синагогу, и однажды с гордостью сообщила мне, что ей дают читать Тору.
А муж её, Шолом, ничем особенным не выделялся, был шалопаем без определенной профессии, единственное, что было в нём — он хорошо пел. Дедушка, рассказывала мне мама, очень не хотел отдавать свою старшую умницу-дочь за этого лоботряса, но Шлима настояла на своём. В это время они жили в Тирасполев дедушкином доме.
Первым родился Коля (Колмэн), а потом в начале тридцатых на свет появился Лёва. Страна стонала от «сталинских принципов экономики », люди умирали на улицах от голода.
Бедолага Шолом вынес из мельницы, где он работал, полмешка муки. Конечно, его поймали и арестовали. На свидании со Шлимой Шолом разжал кулак — на его ладони лежали выбитые при допросе зубы. Но это было не всё — его приговорили к расстрелу.
Шлима оставила крошечного Лёву — его возраст исчислялся неделями — на бабушку и поехала в Москву. Там она добралась до Калинина, упала перед ним на колени, и он дал ей помилование для мужа. Калинин, Михаил Иванович, как бессменный председатель Президиума Верховного Совета СССР имел еще кое-какие властные возможности. Его имя произносили с уважением в народе, называли дедушкой Калининым и всесоюзным старостой.
Четверо суток ехала Шлима обратно в Тирасполь и везла документ о помиловании. За это время Шолома расстреляли. Она, тридцатилетняя женщина стала вдовой с двумя детьми на руках.
Уже много лет спустя, в восьмидесятых, когда тётя Шлима осмелилась об этом говорить, она рассказала мне, что у неё тогда всё «внутри горело».
После войны Шлима вышла замуж за достойного человека, вдовца с двумя сыновьями, из которых особенно младший, Исаак, был своим в нашей семье. Когда тётя Шлима на восемьдесят седьмом году жизни умерла в больнице от сердечной недостаточности, врачи сообщили нам, что у неё на сердце они обнаружили следы давным-давно перенесённого инфаркта.
Пуля, попавшая в Шолома, ранила и ее. Но это «горящее» вдовье сердце продержалось еще полвека.

«Рейзеле», или Птицы нашей памяти
У моей мамы не было ни голоса, ни слуха. Так думала я, потому что училась в музыкальной школе по классу скрипки и проходила там сольфеджио. Тем не менее, часто сидя со мной вечерами за столом, она пела мне свои любимые песни: «Выхожу один я на дорогу…», «Тонкая рябина», «…так значит, мы всегда вдвоём, моя любимая».
С детства мне на душу легли три пласта музыки разных народов. Русские песни звучали по радио и в школе; молдавские дойны лились отовсюду, а молдавские танцы были знамениты на весь Союз; еврейские песни я узнала от мамы: «Киндерйорн», «Офн припетчик», «Ба мир бист ду шейн». Их пели также у нас в семье на праздниках и на вечеринках, когда собирались все вместе, а на столе была бутылка простого молдавского вина и бабушкин круглый, горячий кныш с картошкой. Особенно я любила, когда самая молодая из маминых сестёр Маня, чистым голосом выводила: «Lo mir alle in einem…m‘kabl punem sain», а Яша, её муж, под конец уже слегка навеселе, запевал: «Розпрягайте, хлопци, коней…»
Ещё одно впечатление, связанное с еврейством, осталось у меня в памяти — когда старшие брали меня с собой на кладбище посетить могилы или отметить йорцайт (годовщину) какого-то почившего предка. Были и совсем печальные поводы для прихода на кладбище, когда на Лимане, притоке разлившегося Днестра, утонул одиннадцатилетний Шурик, мой двоюродный братик. Тогда на кладбище находили какого-то старого еврея, и он пел удивительные, ни на что не похожие, и оттого особенно волнующие вокализы, и быстро бормотал молитвы, а все стояли вокруг в благоговейном молчании.
Но, конечно, мне по возрасту были понятней «Варнечкес», «Тумбалалайка», «Ицик от шен хасене гехат». Это был наш обычный репертуар. Но была еще одна песенка, которую мама часто пела, когда мне было лет этак восемь, а потом петь перестала, и я эту песню совсем забыла. Это была «Рейзеле». А мелодия и слова этой песенки были очаровательными, о нежной юношеской любви Рейзеле и Довидл. Я даже не все слова там понимала, но эти я запомнила хорошо: как спускаются по лесенке её тонкие ножки «…ире дривне фисалэх». Заканчивалась песня словами: «Кум цу мир ин холэм (приди ко мне во сне), Рейзл; Кум, кум, кум.»
Мы, музыканты советской школы, воспитанные на классике и русской музыке, были ориентированы на высокий стиль в исскустве. В музыкальной школе неодобрительно смотрели на нас, когда мы подбирали мелодии по слуху. Мы должны были играть гаммы и этюды, а не увлекаться песенками из кинофильмов. Помню, однажды я сидела в классе у рояля и подбирала мой любимый вальс «В лесу прифронтовом». В дверь заглянула завуч, и я испугалась, что мне влетит, ведь у нас было всё наоборот. Но она ничего не сказала. Так или иначе, но мы относились немного свысока к народной музыке, хотя у нас в Молдавии она расцветала пышным цветом. Вскоре в нашем музыкальном училище открыли тарафное (народное) отделение, и мы слегка посмеивались над этими ребятами, отобранными из сёл на обучение. Но потом оказалось, что эти молдаванчики с их цыганской постановкой левой руки и куценьким смычочком в правой умеют выделывать такие штуки, что и нам не под силу.
Когда я оказалась в Германии, и мне открылась возможность для концертной деятельности, я первым делом задействовала свой классический репертуар: «Большое Адажио» из «Раймонды» Глазунова, «Юмореска» Дворжака, двойной концерт Баха были моими первыми шагами на новой земле. В общине Ганновера, где нам, немногим музыкантам, обещали работу, я встретилась со Стеллой Переваловой, пианисткой из Гнесинки, тогда совсем молоденькой, удивительно похожей на принцессу Диану и невероятно талантливой.
Я расширила свой репертуар за счет «Кол нидрей» Бруха, «Мелодии» Глюка, «Венгерских танцев» Брамса, «Вальса из музыки к «Маскараду» Хачатуряна. Взять в работу, например, «Чардаш» Монти (ресторанщина) или «Полонез» Огинского (банальщина) мне, закончившей консерваторию концертом Брамса, и в голову не приходило. Хотя именно Огинский соответствовал моему тогдашнему эмигрантскому настроению: ведь он написал свой знаменитый «Полонез», отправляясь в эмиграцию из Польши, на последней станции, ожидая лошадей.
Однажды в синагоге я услыхала в исполнении кантора старинный псалм «Al neharot Bawel». Это было необыкновенно красиво, и в то же время напоминало пение старика на кладбище. Я записала с голоса кантора эту потрясающую мелодию, и с этого псалма начался мой поворот к клезмерской музыке. Я написала по памяти ноты «Киндерйорн», оказалось все правильно, даже в той тональности, мама не подвела. Но не все песни были мне известны. Как-то после одного выступления ко мне подошла старая женщина, дотронулась до меня рукой и попросила сыграть «A Yiddishe Mame». Этой песни я не знала. «А Yiddishe Mame» я услышала через пять лет в Нью-Йорке на праздновании юбилея моей племянницы Ирочки в русском ресторане, своей роскошью превосходящим всякую фантазию. На сцене в блестящем шоу эту песню исполняли сёстры Роуз на английском языке. Но мне нужны были только ноты! По счастью, ноты оказались при них. Я начертила на обратной стороне программки несколько нотных рядов по пять линеек и переписала туда мелодию. Аранжировщика у меня никогда не было, так что я сама сделала скрипичную обработку и непременно исполняла «А Yiddishe Mame» в каждом концерте. Успех сопутствовал нам со Стеллой, особенно когда мы играли еврейские мелодии, но я относилась к нему немного скептически: «Какие доброжелательные и нетребовательные наши люди. Я играю какие-то немудренные песенки, а они так радуются». Я даже смущалась немного, если в зале были профессиональные музыканты. Но потом произошло событие, полностью перевернувшее мои представления.
Мы со Стеллой готовились к концерту, и я пришла к ней домой на репетицию. Прежде, чем начать играть, Стелла сказала: «Я хочу вам дать кое-что послушать», и стала прокручивать аудиокассету. Кассета крутилась, музыка звучала, не привлекая моего внимания, как вдруг я услышала что-то знакомое. Я сразу узнала «Рейзеле». Я услышала про лесенку, по которой сбегают «ире дривне фисалэх» и про Довидл «Их либ азой дих, Рейзеле,.. либ дос гесл, либ ди маме, либ дос алте хейзеле». Мощная волна эмоций обрушилась на меня, накрыла с головой и отбросила назад, в детство. Оказавшись в том далеком времени, я увидела маму молодой и себя девчонкой. Потрясение было так велико, что я закрыла лицо руками и простонала: «Ой, мама!». Стелла вскочила со стула «Света, что с вами?» А я не могла выговорить ни слова, и только повторяла: «Ой, мама!» Только когда прозвучала последняя фраза «Кум цу мир ин холэм, Рейзл!», я, наконец, открыла лицо.
С тех пор я не удивляюсь, когда после концерта слушатели подходят ко мне с повлажневшими глазами и в зале царит атмосфера любви. Ведь я услышала только одну песенку из моего детства, — и вот что со мной случилось, а они слышат у меня в программе до тридцати мелодий. Целая стая птиц взмывает в душе, птицы нашей памяти.
Я вспоминаю теперь старого еврея, бывшего начальника аэропорта в Ташкенте, как-то сказавшего мне: «Когда я слышу «Офн припетчик» — я всегда плачу.» У моей кузины Полины я спросила, знает ли она «Рейзеле»? «Да», подтвердила Полина. «Дядя Абрам любил петь эту песенку». Я обрадовалась, значит, эта песня жила в нашей семье.
К моему юбилею мой муж сделал мне драгоценный подарок: он отыскал в интернете «Рейзеле» в прекрасном исполнении, переписал ее на диск и даже перевел текст на русский язык. Перевод получился хороший, спасибо тебе, муж. Но для себя я продолжаю петь на идиш: «Кум цу мир ин холэм, МАМА, кум, кум, кум».

Кукла
«Такой прелестный ребенок, — и так неуклюже одет», сказала нам вслед одна старушка, когда мы с мамой выходили из «Гастронома» на Покровской, главной улице Тирасполя. Старушка явно знала лучшие времена.
Шел второй послевоенный год, и хорошо, если вообще было во что одеться. Но потом прибыли американские подарки, брать можно было много, и мама выбрала мне из большой кучи на полу мохнатую шубку, валенки с галошами и зеленую шапку с ушками, как у кошечки. Этой шапочкой я особенно гордилась, и она всем нравилась.*

Потом мама признавалась, что могла прийти еще раз, но было страшно: а вдруг пришьют низкопоклонство перед Западом. Мама устроилась на работу в детскую библиотеку, в которой проработала до пенсии, её знал весь город, и взрослые, и дети. А я ходила в детский сад. Библиотека работала до семи вечера, а садик закрывался в шесть часов. В саду была круглосуточная группа, но я там не оставалась.
Из детского сада я ходила домой сама. Детский сад находился между городским рынком и нашим домом. Мне уже было пять, шестой год, и я хорошо знала дорогу. Там было всего три-четыре квартала, а по пути был самый центр города, где всегда было много народу, и ощущение надежности придавало больше уверенности.
В этот день, а это был уже ноябрь, я возвращалась, как всегда, домой, и вдруг на этом оживленном пятачке меня остановила молодая, благополучная на вид, круглолицая девушка и спросила, есть ли у меня кукла. Куклы у меня не было.Тогда она спросила, хочу ли я её иметь? Да, я хотела. Она пообещала мне большую, красивую куклу, взяла меня за руку, и мы с ней пошли.
Шли мы долго,прошли мимо разрушенного войной театра и вышли за черту города. Там на просёлочной дороге она остановилась, показала мне на стоящий невдалеке маленький домик и сказала: «Дай мне шубку, шапку и валенки, я заверну в них куклу и принесу тебе». Я всё послушно сняла и отдала ей. Доверие к людям было еще не поколеблено, и бог знает, что рисовало мне мое воображение. Галоши она мне оставила.
Я долго стояла на месте и ждала её. Стало темнеть, и начал накрапывать дождик. Сообразив, видимо, что ждать больше нечего, я двинулась назад по дороге. Галоши мои утопали в грязи, и я еле вытаскивала их из болота. Несколько раз навстречу мне шли крестьяне — молдаване с перекинутыми через плечо торбами. Я обращалась к ним с одним вопросом: «Как пройти на Луначарского 17?» Адрес наш я знала твёрдо. Но они проходили мимо, понуро глядя в землю, и даже не повернув головы.
Выбиваясь из сил, я шла дальше. Вскоре слева у дороги показался небольшой дом со светящимися окнами. Я уже приближалась к домику, когда из него вышел мужчина и выплеснул воду из таза на дорогу. Я бросилась к нему с тем же вопросом: «Как пройти на Луначарского 17?»

Мужчина внимательно глянул на меня, что-то мелькнуло у него в голове, и он завел меня в дом. Там сидели две женщины и резали яблоки кружочками на сушку. Видимо, это был один из пунктов Опытной станции. Меня обсушили, обогрели и, должно быть, расспросили. Потом мужчина завернул меня в фуфайку, посадил в двуколку и повёз в город. Я впервые в жизни ехала с таким комфортом, но из-за всего пережитого не ощущала никакой радости.

Когда двуколка выехала на улицу Луначарского, я увидела, что вдоль неё бежит моя мама, а навстречу ей идет человек с ребёнком на плечах, и мама его спрашивает: «Скажите, там в детском саду есть ещё дети?»

Мужчина, привёзший меня в двуколке, услышал её вопрос и закричал: «Женщина, вот ваш ребёнок!» Но мама отмахивается от него и тревожным голосом опять обращается к прохожему: «Там, в детском саду ещё остались дети?»
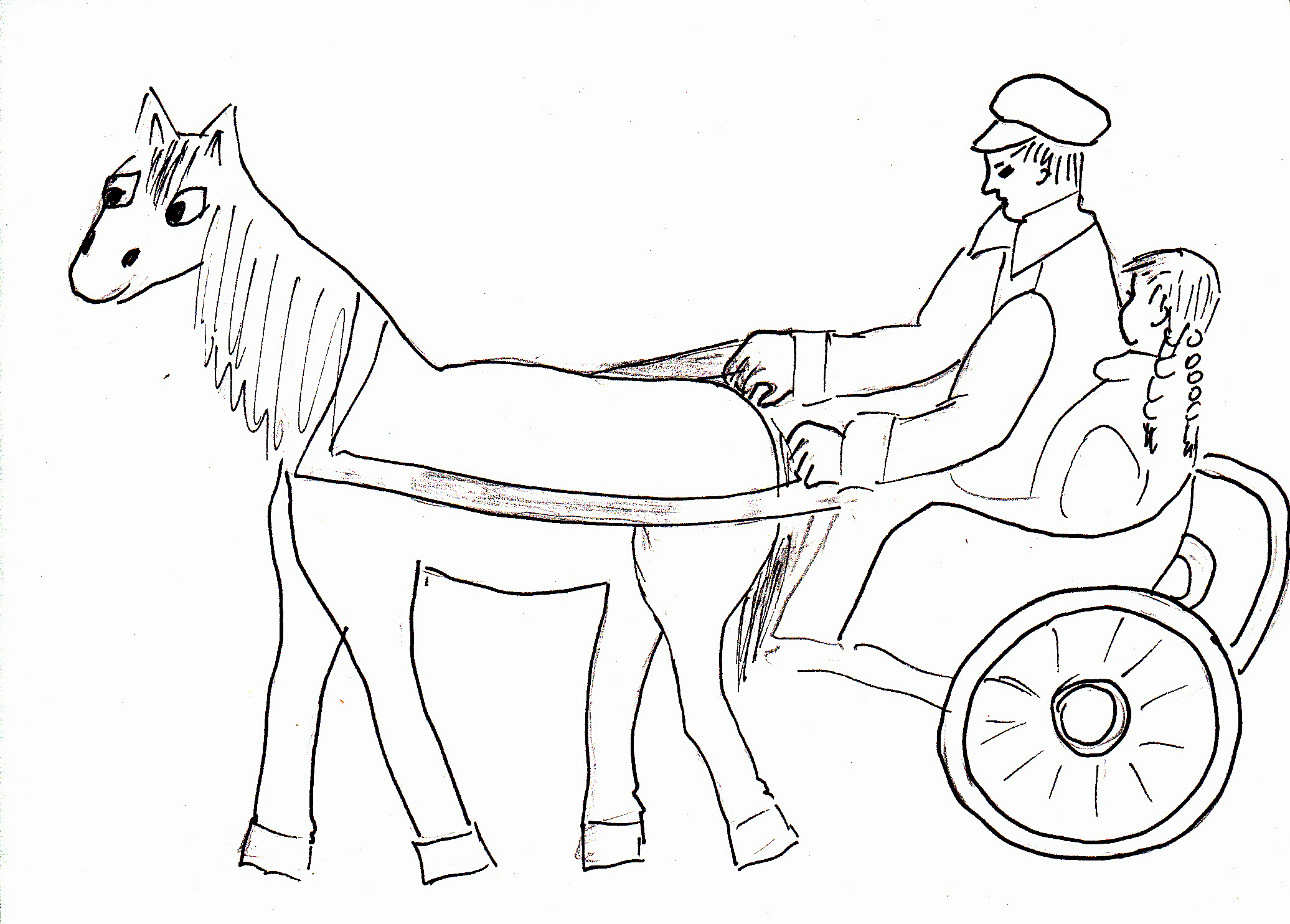
Тут я закричала: «Мама!»…
Этим happy-end’ом можно было бы поставить точку, если бы у этой истории не было продолжения. Примерно через полгода, я помню, что уже было очень тепло, мама привела меня в здание, расположенное справа перед сквером, в котором в то время стоял на пьедестале советский танк, первым ворвавшийся в освобождённый от немцев Тирасполь. Это было здание народного суда. Там посреди большой комнаты стоял стул, и на нём в профиль ко мне сидела худая, изможденная, немолодая женщина и смотрела безучастным взглядом в стену.
Мама спросила меня: «Это та женщина?» Я ответила: «Да». Мне было ясно, что это не та, та была молодая и красивая. Но я сказала: «Да», чтобы утешить маму. Что стало с этой женщиной –я так никогда и не узнала.
Величественный памятник полководцу Суворову, восседающему на коне, основателю города, поставили тираспольчане недалеко от здания суда, куда мама водила меня пятилетнюю. Очутившись возле этого памятника уже взрослой, я вспомнила о женщине, сидевшей на стуле, и о моих «показаниях».
Ну зачем, зачем я тогда сказала: «Да»?
И вот теперь я официально заявляю: «Это не она». Даже если эта несчастная и была замешана в чем-то криминальном, то ведь со мной, слава богу, ничего не случилось. И потом, прошло уже столько лет …
Я прошу, отпустите её!
_____
*) рисунки автора из воспоминаний детства.


Замечательно, пишите еще! А вот «Рейзеле» в исполнении Хавы Альберштейн: http://www.youtube.com/watch?v=PD-Q5Wq_uKI
как трогательно и грустно