![]()
Истоки либеральной болезни надо искать в самом начале жизни — в детстве, когда формируется психика и закладываются моральные качества человека. В прежние годы дети впитывали реалии жизни через литературу и кино, а в последние десятилетия — в основном через телевизор. В 1940 году на экраны вышел первый эпизод мультфильма «Том и Джерри», где, на подобие Давида и Голиафа, сильный и агрессивный кот Том охотится за маленьким и слабым мышонком Джерри, который всегда побеждает своей смекалкой. Несколько поколений американских детей выросло на эпизодах этого мультфильма.
Том и Джерри — родители американского либерализма
Владимир Фрумкин и Яков Фрейдин

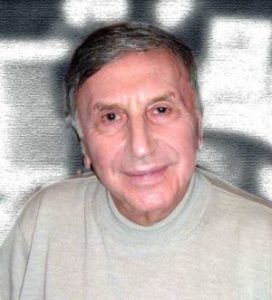
Страны, как и люди, рождаются в муках, постепенно взрослеют, мужают, стареют, а потом неизбежно умирают. Они могут приходить в упадок, могут болеть, а потом выздоравливать и снова становиться сильнее. Взросление занимает столетия, упадок и болезни могут длиться десятилетиями, а смерть иногда занимают лишь несколько дней. Вот и великая и процветающая Америка сегодня серьёзно больна, больна уже более пятидесяти лет. Болезнь эта психического свойства и называется «либерализм». Она, как рак, разъедает прежде свободную и творческую душу американского народа. Более двух сотен лет американский народ заметно отличался от всех прочих упорством, трудолюбием, бескомпромиссной приверженностью свободе, стремлением к индивидуальному успеху и примату личности над государством. Именно эти качества американцев создали могущество и процветание страны. В прошлом народ США отличался изобретательностью, упорством, конкурентоспособностью, умением преодолевать трудности и побеждать. Однако эти бойцовые качества в наше время не просто исчезают, но считаются чем-то даже неприличным и позорным. Добиваться успеха, становиться более образованным, вырываться вперёд — теперь не достоинства, а постыдные недостатки. Либеральная философия прославляет равенство не перед законом, что было бы естественным, а требует признания равенства людей по их способностям — того, что противоречит законам природы. Невозможно из дурака сделать умного, из лентяя — трудягу, из слабого — сильного. Такие попытки делались 100 лет назад в СССР и через 70 лет привели к полной деградации и распаду страны. Одинаковость неизбежно ведёт к застою, распаду и умиранию. Лишь в сравнении можно выбрать лучшее, только в борьбе и конкуренции рождается прогресс. Сегодня эти очевидные истины отвергаются половиной населения США, заражённого либерализмом.
Истоки либеральной болезни надо искать в самом начале жизни — в детстве, когда формируется психика и закладываются моральные качества человека. В прежние годы дети впитывали реалии жизни через литературу и кино, а в последние десятилетия — в основном через телевизор. В 1940 году на экраны вышел первый эпизод мультфильма «Том и Джерри», где, на подобие Давида и Голиафа, сильный и агрессивный кот Том охотится за маленьким и слабым мышонком Джерри, который всегда побеждает своей смекалкой. Несколько поколений американских детей выросло на эпизодах этого мультфильма. Естественно, у них возникало сочувствие и симпатии к слабому мышонку, и презрение к сильному, но неумелому коту. С каким персонажем идентифицируют себя юные зрители? Конечно же, с этим обаятельным и находчивым малышом! Эта эмоциональная реакция впитывается в сознание и подсознание, она становится устойчивым условным рефлексом. Постепенно возникал стереотип, который вырастающие дети переносили на взрослых — нужно сочувствовать маленькому и слабому и презирать большого и сильного. Молодые люди инстинктивно становятся на сторону слабого. Тот же критерий срабатывал у молодёжи за пределами литературы и кино, в реальной жизни. Он проявлялся в их отношении к расовой проблеме, к феминизму, бездомным, к движению за права сексуальных меньшинств и ко многому другому, вплоть до международных отношений. Это нормально, это вполне по-человечески — обожать мышь Джерри и их реальных прототипов, а также хорошо относиться к людям — к тем, кто слабее, кто заслуживает любви, сочувствия и поддержки. Заслуживают однако не все! Любовь часто бывает слепа. Увы, многие не в состоянии вовремя проконтролировать свои чувства и трезво, «по-взрослому», без романтики взглянуть на предмет своей любви, на его истинную сущность и лишь затем решать, кто ее достоин, а кто нет…
У взрослых людей приобретенные в детстве рефлексы корректируются, фильтруются зрелым сознанием, поверяются накопленным опытом и впитанной ими «взрослой» культурой. В головах молодых американцев 70-80-х годов надежного фильтра массовой культуры не было. Их интеллект не получал той информации, которая была доступна среднему классу предшествующих поколений. Им не хватало необходимого багажа, недоставало знаний в таких областях, как история, экономика, география, международная политика. Они слабо знали классическую литературу, живопись, музыку. Allan Bloom в книге «Закрытие американского разума» и Sisan Jacoby в книге «Эпоха американской неразумности» описали первую из «культур отмен», созданную американскими левыми — отмену классического канона в гуманитарном образовании, отказ от многовековой наследия культуры, созданной «Мертвыми Белыми Мужчинами». Белых большинство, значит они априорно виноваты.
По формулировке великого Оруэлла, «некоторые животные более равны, чем другие», а по понятиям левого либерализма: слабые и малые имеют больше прав, чем сильные и умелые. Таким образом, провозглашённое ими «всеобщее равенство» превращается в свою противоположность, где процветает расизм-наоборот и дискриминация любого, кто выше их низко установленной планки в искусстве, науке, технике, и во всех прочих областях человеческой культуры. Порой дело доходит до полного идиотизма. У либералов возникла гипертрофированная склонностью романтизировать реальность, сострадать обделенным, пострадавшим и обиженным в прошлом. Инфантильность такого рода эмоций обычно приводит к абсурдным решениям и требованиям типа: переделать шоу в Диснейленде, где Принц целует заколдованную Белоснежку. «Он целует спящую девушку без её согласия!» — кричат инфантильные идиоты. «Никуда не годится! Придумать новый финал!»
У инфантильных либералов слабый Джерри всегда прав, а сильный Том всегда виноват. Заговорите с нынешними студентами о Ближнем Востоке, об Израиле — и вы немедленно вспомните хищного Тома, преследующего бедного Джерри: у евреев есть государство, крепкая экономика, мощная армия. А у палестинского меньшинства нет почти ничего. Они — страдающая сторона и нуждаются в нашей поддержке. Да, слабенькому «Джерри» приходится прибегать к террору и убивать мирных жителей — а как ещё справиться с сильным «Томом»? Режиссер и независимый журналист Ами Горовиц провёл эксперимент: он останавливал студентов на кампусе университета Портленда (Орегон) и предлагал им пожертвовать деньги на террористические операции ХАМАСа против гражданских объектов в Израиле: кафе, школ, больниц и синагог. Ему удалось собрать сотни долларов. Всего за один час… Гуманные защитники расовых меньшинств, верные союзники геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, не задумываясь, жертвуют свои кровные деньги террористам, жаждущим крови мирных израильтян. Как тут не вспомнить русского философа Николая Бердяева, который предупреждал о том, насколько опасна «смесь ложной чувствительности и аффектированной сострадательности с жестокостью и злобной мстительностью. Сентиментальность часто ведёт к жестокости. Это — закон душевной жизни». Или Фридриха Ницше, сказавшего о том же парадоксе другими словами: «Ах, где в мире творились большие глупости, как не у сострадательных? И что в мире причиняло большие страдания, как не глупости сострадательных?»
К Америке наши левые гуманисты относятся примерно так же, как к Израилю. По той же причине: большая, мощная, богатая… значит виноватая во всех мировых бедах. Антиамериканизм стал частью идеологии «пробудившейся» половины страны. Ему обучают в школах при помощи двух программ: «Проект 1619» и «Критическая расовая теория». Ненависть американцев к Америке — новый феномен. Такого острого неприятия ее истории, традиций, ценностей у ее граждан не было никогда.
Удастся ли здоровой половине Америки излечить вторую половину?
Вебсайт Я. Фрейдина: www.fraden.com


В истории не раз бывало, когда эволюция от общинной особи к индивидуальной личности оборачивалась своей мерзкой изнанкой. Триумф социализма в истории 20-го века тому примером. Это даже не «остановка в пути», но едва ли не возвращение ко временам фараонов…
Мне непонятно почему авторы считают маленького, но умного Джерри, который побеждает большого, но глупого Тома, как бы основателем современного «либерализма». Ведь мораль сказки в том, что ум важнее силы, а ума ведь надо набираться. Глупым либералом скорее можно было бы назвать известного кота Леопольда, призывавшего мышей жить дружно. Правда, в США его не знают. Но может быть там есть аналогичная притча?
Вот в русских сказках всех побеждает Иван-дурак, причем благодаря «халяве»: щуке, трем из ларца, коньку-гобунку и т. п. Видимо эта любовь к «халяве» заложена глубоко в психологии народа.
«…мораль сказки в том, что ум важнее силы, а ума ведь надо набираться…»
Да кто вам сказал, что дети видят в сказке какую-то мораль? Всё у них впечатывается лишь на рефлекторном уровне — слабый, значит хороший, а сильный, значит плохой. Вот и вся «мораль» на уровне мозжечка. А всякие тонкости, вроде «лучше быть умным, чем сильным», эта мудрость для умных — а умных-то в нашем мире: раз, два, и обчёлся. Помните, как Марк Твен сказал (цитирую по памяти): «Если в 20 лет ты не либерал — у тебя нет сердца. Если в 30 лет ты либерал — у тебя нет мозгов.» Та же идея, что и у авторов — молодёжь почти вся либеральная из-за сердечного сострадания к слабому да малому. А чтобы к 30 годам поумнеть — для этого надо иметь мозг в голове, а не только в спинном мозгу.
Серёжа
— 2022-02-25 19:18:36(293)
Либерализм в своём исконном значении — единственный образ мысли и восприятия человека цивилизованного, гуманного или просто думающего. То, что это слово по-наглому спёрла левая шпана и называет им свои бредни, не должно позволять людям, осведомлённым о его корне и смысле, повторять за ними. Условно правые или попросту истинно прогрессивные взгляды не содержат абсолютно никакого противоречия с либерализмом, и более того — на нём базируются.
==================
«ЛИБЕРАЛИЗМ В СВОЁМ ИСКОННОМ ЗНАЧЕНИИ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МЫСЛИ И ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА ЦИВИЛИЗОВАННОГО, ГУМАННОГО ИЛИ ПРОСТО ДУМАЮЩЕГО.»
Согласен с пояснениями/уточнениями.
«Исконное значение» — смысл этого замечания не определим ясно. И либерализм, включая классический есть феномен исторический. Либерализм покоится на признании естественных прав человека и защите личности от произвола власти (а без существования власти – всегда склонной к произволу — нет общества). Обе посылки полны напряжений перед лицом истории картины «естественного человека». Тем ни менее никаких непротиворечиво однозначных идей у нас нет и вряд ли таковые возможны. С этим надо жить. Так что либерализм не есть естественный образ мысли, но исторически сформированный, со всеми вытекающими из этого его напряжениями и способностью опускаться до «левизны». Но я выбираю либерализм, соглашаясь с Вами. Не случайно, нацизми коммунизм видели в либерализме врага. И, да, так называемые «левые» в Америке и Европе искажают либерализм до его противоположности. ( См. Деннис Прагер: «В чем разница между либералом и левым?» — http://club.berkovich-zametki.com/?p=58203), а «правые» иной раз идут на поводу «левых», соединяя слова на подобие: «либеральный фашизм».
Надо учитывать, что в либерализме, не осознающим свои границы, есть опасность быть искаженным до опасных карикатур. Как осознать эти границы? Вечный вопрос идеологий. И тут важно прислушиваться к консерватизму с его критикой либерализма. Как заметил Р. Скрутон («Разговор с Роджером Скрутоном» — http://club.berkovich-zametki.com/?p=59948) :
«В политической сфере я думаю, консерватизм возник в 18 веке как ограничительная модификация либерализма. Благодаря Локку и Монтескье и некоторым другим, правящей элите стало очевидным, что свобода имеет серьезную политическую ценность, которую следует реализовать и сохранять. Это мне кажется очень важным, но это также чревато опасностью для социальной стабильности. Если вы полностью освободите людей от социальных ограничений и тем самым дадите вырваться силам анархии, люди окажутся дезориентироваными при принятии важных решений. Так что я думаю, консерватизм возник, особенно среди мыслителей, подобных Бёрку и Юму, как модификация либерализма. Консерватизм указал, что свобода имеет смысл, только, если ею пользуются люди, признающие свои обязательства, пользующиеся свободой ответственно. Но ответственные люди существуют только в социальном контексте, который формирует их, а этот контекст сам существует только благодаря институтам, обычаям, традициям, ограничениям, которые консерватизм стремится сохранить».
Вот и оказывается сегодня, что защита «исконного значения» либерализма дело рук консерваторов, защиты того образа жизни, к которому привел классический либерализм (при всех его внутренних трениях) к середине 20 века (после войны) и который сегодня под угрозой как со стороны «левых», так и со стороны «правых», мечтающих законсервировать прошлое без почвы в традициях, поддерживавших классический либерализм (Habeas Corpus в новом информационном, глобализующийся мир, устойчивые не политические независимый от власти ассоциации на местах, семья…) Парадокс? С ним надо жить и надеяться защитить либерализм в этом «поврежденном мире»
Либерализм в своём исконном значении — единственный образ мысли и восприятия человека цивилизованного, гуманного или просто думающего. То, что это слово по-наглому спёрла левая шпана и называет им свои бредни, не должно позволять людям, осведомлённым о его корне и смысле, повторять за ними. Условно правые или попросту истинно прогрессивные взгляды не содержат абсолютно никакого противоречия с либерализмом, и более того — на нём базируются. Семантика, скажете? Может быть, только мне так не кажется.
Вы правы, Сережа, что понятие либерализма, синонимичное свободолюбию, неомарксисты извратили. Но это обычное дело. В Израиле уже почти все называют арабов Иудеи и Шомрона палестинцами, хотя Палестина прекратила свое существование в 1948-м. Или вот небольшая часть правого берега р. Иордан почти все почему-то зовут «Западным берегом». Именно так с заглавной буквы, как будто это страна.
Да, в терминологии есть проблема. Но это не так уж важно. Здравомыслящие люди понимают разницу между «либерализмом» и «либерастией».
Уважаемые авторы!
Сострадание к слабому, больному и бедному изначально заложено во всей европейской культуре, допустим от Диккенса, но на самом деле гораздо раньше. Это сострадание является стрежнем классической русской литературы. А теперь вы хотите нас излечить от этой «болезни»? Не толкаете ли вы всех к Гитлеру?
Сострадание к слабому, больному и бедному изначально заложено во всей европейской культуре, допустим от Диккенса, но на самом деле гораздо раньше. Это сострадание является стрежнем классической русской литературы. А теперь вы хотите нас излечить от этой «болезни»? Не толкаете ли вы всех к Гитлеру?
Сострадание вовсе не обязательно предполагает главным начальником назначить слабого, армейские нормативы подгонять под больного и поручить бедному управление экономикой. Неудачника стоит от гибели уберечь, но богоизбранным его считать все же не стоит, а то он, как у Фучика, примется «мстить всем, кто выше его физически или духовно, т.е. решительно всем».
«Не толкаете ли вы всех к Гитлеру?»
Этот вопрос лишен смысла. Понятно, что борьба с нездоровым либерализмом двигает общество в сторону другого края шкалы — к фашизму. И что с того? Если маятник отклонился, скажем, влево до предела, он, естественно, начинает двигаться вправо — в сторону другого предела. Так вот, не нужно отклонять маятник до предела — он должен висеть (приблизительно) посредине. И если либерасты не уймутся, США и Европу ждут неприятные времена, вплоть до гражд. войны. Автор этой заметки не предлагает обществу начать игнорировать проблемы слабых, больных и бедных. Он предлагает, во-первых, не объявлять слабость и бедность нормой, а во-вторых — не объявлять здоровье и силу патологией. Вот и всё!..
Леонид Рифенштуль:
«Не толкаете ли вы всех к Гитлеру?»
Этот вопрос лишен смысла…
:::::::::::::
Великолепное суждение!