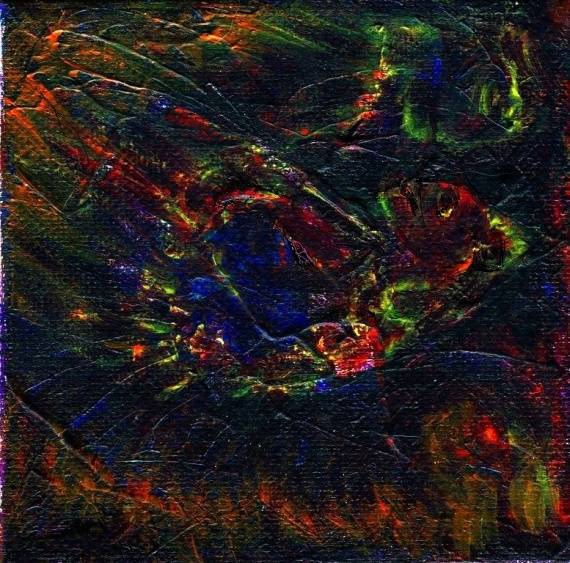![]()
Несмотря на то, что столько веков отделяет нас от древних создателей мифов, новые поколения поэтов и художников находят в мифах и сказках неисчерпаемый источник вдохновения и самопознания, именно потому что они, в какой-то степени, отражают наше подсознание.
Стихи и картины
Нина Косман
Когда-то мне казалось, что у моих стихов нет ничего общего с моими картинами. Мои картины в те годы были с человеческий рост.
Так как у меня два родных языка, я пишу стихи по-русски и по-английски, но мои языки живут в моей голове отдельно, не соприкасаясь друг с другом. Наверное, поэтому я пишу иногда только на английском, а иногда только на русском. Это «иногда» может длиться годами, а может и всего пару недель.
Примерно два года назад размер моих картин стал уменьшаться.


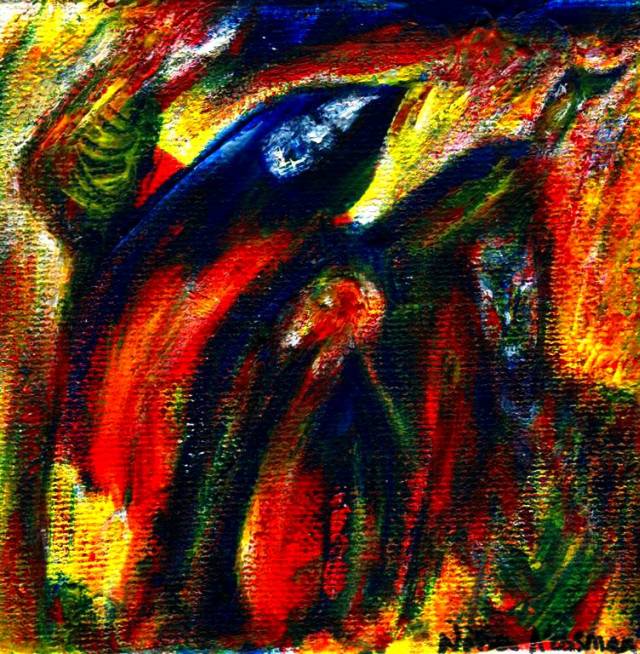



Когда стали появляться картины поменьше, я заметила, что у моих картин много общего с моими стихами. Чем больше я вглвдывалась в свои картины, тем больше я видела их связь со стихами, и тогда у меня появилась идея сочетать картины и стихи. Среди моих первых «стихо-картин» были следующие пары:
ПЛЕННЫЙ
Рыцарь видит отраженье,
рыцарь что-то говорит.
Но драконово отродье
сердце вырвать норовит
из груди, кольчугой крытой
но ранимой, как душа,
из последнего загона
тенью освобождена.
И не слышит рыцарь мнимый,
что там дама говорит,
и не слышит лошадиный
стук серебряных копыт.
Конь двоится пред глазами,
с тенью рыцарь говорит.
“Скоро тенью сам он станет!”
леший чудищу бубнит.
“Вырвем сердце, обмусолим,
а потом—айда в котёл!
Там и сгинем. Наша воля.
В тело — душу обмакнём.”
Мифологические персонажи появляются в моих картинах и стихах по той же причине, что и сказочные существа: и те и другие являются олицетворением вдохновения и подсознания. Несмотря на то, что столько веков отделяют нас от древних создателей мифов, новые поколения поэтов и художников находят в мифах и сказках неисчерпаемый источник вдохновения и самопознания, именно потому что они, в какой-то степени, отражают наше подсознание. Чем глубже мы в себя всматриваемся, тем вероятнее, что наткнёмся на миф. Хотя нам кажется, что мы неизмеримо далеко ушли от наших предков, на самом деле текстура наших костей передается вместе с формой наших снов.
* * *
Погляди, они возвращаются,
Косолапою рысью, с гор.
Нет, не кони: ни лязга шпор,
Ни изогнутой луны во лбу.
Хотя звезды им в ног катятся,
Как катились они их пращуру, золотому солнцу.
О, выше—вон! Держи! Ату!
Шепотанья снегов, вспуганных гончими,
Разъезжающиеся прутья воздуха.
Это они: волки!
Это они, которых боится луна.
А теперь их догоняет тьма
И мой голос, тихий и тонкий.
И сама хриплая богиня воздуха
Их прячет в свою утробу.
Погляди: о нет, не синий снег—это тьма:
Нежные руки расплетшая тьма,
Добрая.
* * *
СКАЗКА
Чудо-юдо поклонилось,
миру в ножки опустилось,
приглашая на жильё,
воркованье и лганьё.
Чуду дева улыбнулась,
поклонилась, изогнулась,
и пошла пред ним плясать
тихо-чутко, словно тать.
Дева видит: исказились
глазки чуда завалились
в бездну сладкую, как ад,
как молочный шоколад.
Дева в чудо окунулась,
присмотрелась, ужаснулась.
Дева ввергла чудо в грязь.
Так порвалась с чудом связь.
СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ
От тревожного света ночных фонарей просыпаясь,
Глядишь, не мигая, в холодные улицы сна.
В северный воздух, как рыба, ныряешь по пояс.
Память бедного детства: холод и белизна.
Покинутый город в пышных снегах затерялся.
Не поют о нём даже скальды, запивая вином.
Помнит о городе лишь сновидец печальный:
Здесь, где кончается лес, стоял его дом.
* * *
Рассказчица снов отразилась в стекле.
Стекло разбилось на сотни гримас.
Гримасы смешались в одном котле
И — ни единого сна для нас.
Охранница снов собрала сны в храм.
Молилась на них, как на лики богинь.
Но время сломало и сей сезам:
От храма—лишь хлам один.
Печальница снов их зарыла в земле,
И вырос из них чудный куст.
Целебные листья куста — в цене,
А ствол оказался пуст.
Некоторые из пар были англоязычными:
Sycamore and oak
toss skinned branches:
leaves trimmed to size,
nerves cropped tight:
while the snow lasts and sleeps
in the earth’s sunk flank,
lulls the earth’s wanderings
into the ancient calm
dimmed, blotched beyond
a possible muffled cry,
leaving with nothing but:
be still, sleep
in this chill; heal.
PERSEPHONE’S RETURN
I’m a backward
sound of myself.
I twist, I turn
through sheer virulence
of habit sleep
that measures me in bursts
of agony. I am Persephone.
Need I say more? I ask, I bless.
I speak the raw material of memory:
only flowers here still recall the dead.
I am a green begonia.
I am a red
petal on the stem of morning.
I am, I am…
Black sweetness,
save me from these shattered
words, repetitive illusions.
I am dark, uncountable.
I am the meaning of a syllable
the ancients said and dropped.
I am the one the clouds dream of
when their vapor eyes are shut.
The weeping wall, the nakedness of heart…
Disinterestedness, now let me go.
You said: it’s guaranteed—
the backward glance, the exit,
the twisting back, back, back…
Now let me go, beauty grass.
Your kisses pain me
like all that dies pains that which doesn’t.
I am the eye-nerve of your marriage,
grassy sky.
I ask, I bless.
I am a friend to everything that’s mortal.
I beg you: do breathe me in;
and let me disappear in you:
Forever, earth.
Forever, sky.
* * *
WAKEFULNESS
The left hand of darkness is light walking backward.
The absolute is a runaway smell of an ancient rain.
The mouth we kiss is not the mouth we stake our fate on.
Look: the throb of light is the cool breeze of years to be.
The shore of detachment is away from the sleeping seaweed.
The fists are open for the air to smile them away.
Nothing is less our own than the ashes the wind is keeping.
Look: the sun and the body both rush to a destination of light.
Wakefulness is a familiar dream of the dry face of canvas.
Wakefulness: the longing so filled with the gestures of light,
it no longer knows the border between word and silence
and cuts through it calmly like a swimmer into a hypothetical wave.
Были пары двуязычные, т.е. одно и то же стихотворение было и на английском языке и на русском.
Видишь, как чёрная стая
молча упавших птиц
смотрит, воздух глотая,
на воздух, глядящий вниз;
и разум их, ставший крыльями
и их изумленные сны
о небе, коварно спиленным
до самой голубизны —
черною стаей, без крика,
в безмолвные лезвия трав:
железной земли стоокой
и зрячего неба сплав.
See how the black flock
of quietly fallen birds
stares, swallowing air,
at the air staring down.
Their minds become wings,
their startled dreams
of the sky insidiously sawed
down to its very blueness —
the black flock falling, without a sound,
into the soundless blades of grass:
the alloy of the hundred-eyed earth
and the seeing sky.
* * *
Видишь, видишь ли языки древних:
Как пламени красные лица,
Они вздымаются к небу
Погонею за сыном солнца —
Оно и в зрачке наяды
Плясало, как рыжий бог.
Видишь, видишь ли эти руки:
Как прутья иссохших эпох,
Они желают скрутиться
В колесо, что прочнее времени,
Нержавее дня колесо солнца.
Видишь, видишь: все искры — к небу,
И в каждой — по лику солнца,
Переплавясь в которое, предки,
Их руки, как лепестки,
Как лепестки колеса солнца,
Предки падут на землю,
А на ней уже живём мы.
Do you see the tongues of the ancients —
They rise up to the sky
Like red faces of a flame,
In pursuit of an heir to the sun:
Even in a naiad’s pupil
It danced like a red-haired god.
Do you see these hands —
Like rods from a withered era,
They wish to curl
Into a wheel that is stronger than time
Less rusty than day, a sun wheel.
Do you see these sparks rising up to the sky,
And in each — a face of the sun,
And in each spark our dissolved ancestors,
Their hands like petals,
Like petals of the wheel of the sun,
Our ancestors fall to the ground,
And therein we already live.
В некоторых парах одна из сторон — стихотворение в прозе. Стихи в прозе я пишу и на английском и на русском. Их легче переводить с одного языка на другой.
ОДИССЕЙ И ЦИРЦЕЯ
Когда у Одиссея не осталось средств, он пошёл жить к Цирцее, рискуя быть превращённым в свинью. Но спасла его не врождённая хитрость, (м.б. была она у него, м.б. нет), а эгоизм, которым часто пеняла его Пенелопа (пеняла — вот и уехал!). Когда волшебница (да уж какая она волшебница! сказала бы Пенелопа), так вот, когда волшебница дотронулась до его небритой щеки, он ощутил себя не свиньёй, а богом; и думая, что сам не хуже Гермеса, грубо оттолкнул посланца богов и так и не узнал о целебной травке, которая могла бы из его соратников снова сделать людей. “Свиньями были, свиньями стали!” крикнул, пнул дверь свинарника и навсегда их забыл.
(Эта набившая оскомину чушь повторялась тысячелетиями, также как и другая общеизвестная версия, по которой он вызволил их из царства свинства и рабства.)
ODYSSEUS AND CIRCE
When Odysseus was left without means, he went to live with Circe, at the risk of being turned into a pig. He was saved not so much by his innate cunning (maybe he had it, maybe not), but by his selfishness, for which Penelope used to scold him (she scolded him too often, that’s why he left!). When a sorceress (“Some sorceress!” Penelope would have said), anyway, when the witch touched his unshaven cheek, he felt himself not a pig but a god; and thinking himself no worse than Hermes, he rudely pushed away the messenger of the gods and never found out about the healing herb, which could have saved his friends, turning them back into men. «Pigs you were, pigs you shall be!» he yelled, kicked the door of the pigsty and never mentioned them to Circe again.
* * *
Когда его положили на железную решётку (а под ней были раскаленные угли),
и слуги рогатинами прижимали его тело к железу, архидиакон Лаврентий сказал:
“Я радуюсь, ибо своими страданиями заработаю себе мученический венец.”
Но слуги уделяли больше внимания решетке, чем мученику.
Решетка не поддавалась, на неё нужно было давить вчетвером,
и пока они на неё все вместе давили, Лаврентий
(ещё не ставший святым) вспоминал свои предпоследние муки,
которые он заслужил отказом от поклонения идолам
(его тогда били оловянными прутьями и тонкими железными цепями с острыми углами,
но ничто не могло сравниться с медленным поджариваньем на этих углях…).
“Вот вы испекли одну мою сторону, поверните на другую и, когда я весь испекусь,
съешьте меня,” бодро пошутил, зная, что в минуту смерти
он уже не архидиакон, он — почти святой.
THE ROASTING OF ST. LAWRENCE
When he was placed on an iron grill (under it were hot coals)
and servants pinned his body to the iron with forks, Archdeacon Lawrence said:
«I am happy, because my suffering earns me a martyr’s crown.»
But the servants paid more attention to the grill than to the martyr.
The grill was unresponsive, it had to pushed by the four of them,
and while they were at it, Lawrence (he has not yet become a saint) recalled
his penultimate torment which he earned by rejecting idolatry
(that time he was beaten with tin rods and thin iron chains with sharp corners,
but nothing could compare to the slow roasting on these coals …).
«You have baked one of my sides, now turn me over and, when I’m well done,
Eat me,” he joked cheerfully, knowing that at the moment of death
he was no longer the archdeacon, he was a saint.
Мне не хотелось оставлять и свои юношеские стихи без картин, и примерно полгода назад я написала картины к стихам, написанным в возрасте 15-16 лет. В этом возрасте я жила в Нью-Йорке, как и сейчас.
Твое лицо, запылённое временем,
Мне сказало слова неясные.
А земля раскрывалась веером
И судьбы сплетала бессвязно.
И нету ответов и нету вопросов,
Лишь много скрещений незнающих глаз.
Как русские сани, узбекские косы,
Как весенние дали, весна не для нас.
И звуки сплетались в огнях поминальных,
И желтое с красным мерещилось мне.
И, белый от боли, от знанья, от славы,
Ты много бы отдал крикливой весне.
Этот стих я написала в 18 лет, а картину к нему совсем недавно.
Камень с его постамента не сдвинуть,
Руки трепещут и плачутся в ночь.
Стрелы поют, а троянская глыба
была и белела и пятится прочь.
Мелом замажут на карте простраций
место, где камень когда-то стоял.
Любо-слюда гибло-бледного кварца —
Сердце из камня я изваял.
В течении двух лет я писала картины к уже написанным стихам, но теперь картина и стих появляются одновременно. Мне кажется, у этих пар особая близость.
Вот туда, вот туда, вниз, под гроздь фонарей,
Здесь беснуются годы с разлукой.
С домов сняты крыши и нету дверей —
Безымянная голая мука.
Здесь клён облетает песчинками дня
И воздух ночной тягуч.
Здесь множество слов, которые, для,
Ветер мог бы обвить вкруг туч.
Здесь нету прохожих, здесь каждый свой брат,
Сам шепчет в себя свою тайну.
И каждый -— сестра себе,
Каждый богат
Осеннею зрелой данью.
Но ветер померк. И тучи сыты.
И в фонаре — жужжанье.
В белой фонарной области — ты.
Ты, и я, и молчанье.
Он сам был облик и развитье
своих напастей и причуд,
лихой носитель их величья,
бездумный и отменный плут.
Он звонкой данью мерил гений;
в зияющeй на фоне фраз
экранизации творений
грядущих толп узрел экстаз.
А сам—чуть ниже сосен ростом
и так же лёгок на подъём,
как миром бредящий подросток,
от мира прячущийся днём.
Им восторгались дамы в детстве.
Он детством был вооружен.
То своенравия, то чувства,
а то эстетства эпигон.
ORPHEUS
He sings his way up to being,
quietly, with unhurried breath,
as though words were a blossomed staircase
leading to a perfect sky
where kind-eyed gods themselves,
with slow, sinuous movements,
and ancient, immaculate hands
would greet him kindly: ‘Friend!’
As though the net to catch human souls
were masterfully spun of poetry,
of nothing but the sound of words,
not even the shape… the color.
Where are now the moonlit woods
that stood up darkly and strictly
in the soft thick mist of his longing,
now that he has lost his Eurydice
and walked through the silent earth?
ОРФЕЙ
Неторопливо и нежно
он претворяет себя в мечту
будто мечта –это лестница,
ведущая в небо,
где боги с добрым прищуром
и с безукоризненной кожей
приветствуют его ласково: “Друг!”
Будто для ловли человеческих душ
сеть сплошь сплетена из песен —
из ничего, кроме звуков и слов,
без смысла и даже цвета…
О где теперь тот луной озарённый лес,
стоявший темно и строго
в высоком тумане его мечты,
пока он сооружал свою лестницу
и не ступил в облака.
БАБОЧКА
В мрази — бабочкино крыло,
ломанное и вогнутое,
Как паутиной весь мир свело,
Как бабочка — сердце тронутое,
С опаленной пыльцой крылами;
Взмахнуло -— и тела длани
Выпустили на азот,
На аз и на буки жизни,
На ассовый перебор
Всего, что вверху встречается,
Как усики –утончается,
Как лапки мои — ломается,
Как по небу шарит шор-
ох.
Голубые кошачьи глаза.
И вдруг вздрогнет жизнь и сощурится,
и опять, и опять, как тогда:
по резным, по лукавым улицам,
и как вздрагивают провода,
и как вдруг часовыми чудятся…
Но, как отряхнется, как кошка, жизнь,
да как в новый дом перейдёт,
да как свой кошачий каприз
не тем проводам шепнёт…
Отворяется клетка сна.
Раскрывает ладони львица.
Под царственный храп льва
мне продолжает сниться
букет черных ресниц,
повисших над белым глазом:
кто вынул его из лиц,
ласково вставил в вазу?
Ласково вставил в вазу,
водрузил её на
левую лапу львицы
по правую руку сна.
SHADOW OVER THE TOWN
Helen’s shadow on Trojan rocks
still threatens the Greeks,
burdens them with the highest taxes
the loved exacts from the lover:
middle-class teashop warmth forsaken,
adding machines count the killed,
a scarce spring, a fruitless autumn,
quiet markets and barren cribs:
see the wretched pass for the mad,
the mad for the licentious
shadows creeping after the main
shadow over the town—
the feared outlines of the woman
washed clean of mercy,
memory of the guilt reflecting
future centuries’ blood.
* * *
СИНЕЕ ЭХО
Скок!—под фонарь, затаивши рыданье,
Ночь разблистала своё мирозданье.
Фонарная длинь расширяется кругом.
Кругами сестрёнки бегут за недугом.
Одна—это шах фонарей фонарю.
Другая—догонит сестру наяву,
Если фонарь выжжет душу себе,
Если весь город отдастся судьбе,
Если фиалковой влажной ленцой
Мир прополощет ночное лицо.
Всё ж не догнать февралю февраля.
Ночь в оборот—и погоня зазря.
Сестрёнка поймает сестру за косицу,
Но утро настанет, рыдая столицей.
Два синеньких гнома бегут друг за другом,
Фонарь разливается жёлтеньким кругом.
Кажется, кожица туxнет на сёстрах.
Кажется, множатся жёлтые монстры.
Фонарь опадает движеньями века,
Надеясь погаснуть синеньким эхом.