![]()
Ещё во время учёбы в «Строгановке» у меня нарастало чувство недовольства не вполне добровольно выбранной мной в своё время профессией художника-оформителя. И мне не хотелось больше работать художником-оформителем в такой закрытой «фирме», как Институт биофизики, с его пропускной системой и с довольно удушливой психологической обстановкой. Мечты о работе в анимации оказались несбыточными. Для этого надо было получать второе высшее образование, т. е. снова несколько лет учиться при Союзмультфильме. Вряд ли бы я это осилил. И довольно сильная психологическая травма, полученная в ходе изнурительной «битвы» с Г. А. Захаровым, тоже требовала какого-то изменения жизненной обстановки. Достаточно сказать, что после окончания, я довольно долго избегал появляться в «Строгановке». «Давили» тяжёлые воспоминания.
«…ЗВАЛОСЬ СУДЬБОЙ И НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ…» — 09
Юрий Вешнинский
Продолжение Начало
 На кафедре истории искусств на моей стороне была Ирина Евгеньевна Данилова. На одном из двух педсоветов, на которых Г. А. Захаров пытался добиться моего осуждения, она говорила, что её подкупил революционный пафос в моём реферате, (а ведь его там и вправду было навалом). Моей сторонницей была и ещё одна преподавательница истории искусства Анна Борисовна Матвеева. Был на этой кафедре ещё один очень хороший преподаватель Александр Калимович Чекалов (он у нас преподавал народное и декоративно-прикладное искусство)[1], который, был человеком, несомненно, талантливым и интеллигентным. Но он был уж очень хрупок и нежен для нашей жестокой жизни. В этой ситуации он не выдержал давления сверху и сломался (и мне советовал покаяться), о чём я очень жалел не столько из-за себя, сколько из-за него самого: ему это не принесло ничего хорошего. Для Г. А. Захарова, его собутыльников и шестёрок он своим всё равно не стал, а некоторые из тех преподавателей, которые мне сочувствовали, перестали его уважать. Те, кто поддерживал с ним отношения после этой истории (а прожил он после неё недолго и умер в 1970 году совсем молодым), говорили мне, что он в последние годы жизни находился в глубоком психологическом кризисе. Жалко! Хороший, всё-таки, был человек, и много хорошего мог бы ещё успеть сделать![2] Кстати, мне говорили, что после его смерти в «Строгановке» были даже «Чекаловские чтения». И уже много лет спустя, на проходивших уже «в новом тысячелетии» «Анциферовских чтениях» в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН (а я — большой поклонник творчества Н. П. Анциферова), я познакомился с сыном А. К. Чекалова, филологом Кириллом Александровичем Чекаловым. Поистине, — мир тесен и слой тонок!
На кафедре истории искусств на моей стороне была Ирина Евгеньевна Данилова. На одном из двух педсоветов, на которых Г. А. Захаров пытался добиться моего осуждения, она говорила, что её подкупил революционный пафос в моём реферате, (а ведь его там и вправду было навалом). Моей сторонницей была и ещё одна преподавательница истории искусства Анна Борисовна Матвеева. Был на этой кафедре ещё один очень хороший преподаватель Александр Калимович Чекалов (он у нас преподавал народное и декоративно-прикладное искусство)[1], который, был человеком, несомненно, талантливым и интеллигентным. Но он был уж очень хрупок и нежен для нашей жестокой жизни. В этой ситуации он не выдержал давления сверху и сломался (и мне советовал покаяться), о чём я очень жалел не столько из-за себя, сколько из-за него самого: ему это не принесло ничего хорошего. Для Г. А. Захарова, его собутыльников и шестёрок он своим всё равно не стал, а некоторые из тех преподавателей, которые мне сочувствовали, перестали его уважать. Те, кто поддерживал с ним отношения после этой истории (а прожил он после неё недолго и умер в 1970 году совсем молодым), говорили мне, что он в последние годы жизни находился в глубоком психологическом кризисе. Жалко! Хороший, всё-таки, был человек, и много хорошего мог бы ещё успеть сделать![2] Кстати, мне говорили, что после его смерти в «Строгановке» были даже «Чекаловские чтения». И уже много лет спустя, на проходивших уже «в новом тысячелетии» «Анциферовских чтениях» в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН (а я — большой поклонник творчества Н. П. Анциферова), я познакомился с сыном А. К. Чекалова, филологом Кириллом Александровичем Чекаловым. Поистине, — мир тесен и слой тонок!

Между прочим, А. К. Чекалов говорил нам на лекциях, что, вопреки распространённым в XIX веке романтическим воззрениям, очаги народных промыслов не распространены повсеместно, а, в качестве редких, единичных исключений противостоят преобладающему вокруг них морю (или потоку) энтропии. То есть он был близок к тому информационно-семиотическому взгляду на искусство и подходу к его изучению, который я стал усваивать уже после окончания «Строгановки».
Вариации на тему русского народного искусства (по мотивам лекций А. К. Чекалова)
Мои рисунки 1963 года
Стоит, я думаю, в этой связи привести самое «семиотическое» место из моего реферата. Ведь, не зная тогда ещё ни слова «семиотика», ни фамилии Ю. М. Лотмана, я в этом своём реферате пытался анализировать язык архитектуры. Вот этот замечательный пассаж со слегка исправленной орфографией: «В 20-е годы архитектура эмоционально воспитывала нового человека. Сдержанная цветовая гамма, чёткие прямые линии и гладкие плоскости как бы дисциплинировали, подтягивали человека, и, в то же время, асимметричность плана и цветовой разделки стен, отсутствие предвзятой «классической» схемы как бы показывали, что это разумная, осмысленная дисциплина, не сковывающая и подавляющая человека, а наоборот, создающая ему все удобства для выполнения тех или иных функций. В 30-е годы направление «воспитания» изменилось. Абстрактная, холодная, функционально не оправданная симметрия и тяжеловесная помпезность вызывали у человека ощущение чьей-то силы, диктующей свою высшую непонятную волю, и, как бы в виде компенсации за подчинение этой воле, человека угощали вычурной роскошью[3]. И, хотя эти перемены мотивировались требованиями народа, подлинные мнения и потребности трудящихся равнодушно обходились».
Позже, когда я дал прочитать свой реферат уже упоминавшейся выше преподавательнице истории искусства в «Строгановке» А. Б. Матвеевой, то, дойдя до этого места, она не удержалась: «Слушайте, это Вы сами придумали?» «Да» — простодушно ответил я — «А что?». Стоит, ещё сказать, что в этом абзаце машинисткой была допущена опечатка, и, вместо слова «волю» было напечатано слово «волк». «Это надо исправить, а то скажут, что Вы советских людей волками обзываете», сказала А. Б. Матвеева. Было в моём реферате, кстати и ещё одно «крамольное» место о «реставраторских устремлениях Сталина». И это было ещё не всё!
Любопытно (и очень важно для решения моей судьбы), было то, что на моей стороне оказался зав. кафедрой марксизма-ленинизма, доктор философских наук Грант Левонович Епископосов, который вовсе не был заинтересован в том, чтобы его обвиняли в недостатке идеологической бдительности на его кафедре, да и, кроме того, он терпеть не мог Г. А. Захарова, который и кандидатом-то не был, хотя членом-корреспондентом упразднённой в 1950-х годах Академии архитектуры и Академии художеств был.

Кроме того, на моей стороне была ещё одна преподавательница с этой кафедры, имени и отчества которой я не помню, но помню, что её фамилия была Козлова. Она уже после начала всей этой заварухи, написала по просьбе Г. Л. Епископосова на мою статью положительный отзыв, признав, правда, односторонний характер трактовки и оценки разных архитектурных эпох и течений. Это и стало как бы консолидированной позицией кафедры марксизма-ленинизма. Но ведь от «односторонней трактовки и оценки», продиктованных, по версии Г. Л. Епископосова, молодостью и студенческой горячностью автора, до «контры» и «идеологической диверсии», которые усмотрел в моём творчестве Г. А. Захаров, была ещё «дистанция огромного размера». Но были на этой кафедре и мои противники, например, преподавательница политэкономии Харитонова (имени и отчества её я уже не помню). Надо отметить, что А. В. Абрамова, сначала обещавшая мне поддержку в этом конфликте, потом, почувствовав, видимо, «куда дует ветер», испугалась и «отдрейфовала» в сторону. После этого мы с ней уже не встречались.
Вообще-то, я тогда ещё плохо представлял себе, что время уже, что называется, «покатилось назад». Хотя вся эта история происходила на фоне прошедшего в 1966 году процесса над Юлием Даниэлем и Андреем Синявским, исключения уже в 1968 году из КПСС и увольнения с работы без права работать в научных учреждениях философа, искусствоведа и правозащитника Бориса Шрагина (впоследствии он эмигрировал) и ещё кое-чего очень плохого (о многом я тогда просто не знал), я связи между всем этим и моей «историей» тогда ещё по наивности и невежеству не понимал. Между прочим, И. Е. Данилова мне говорила, что, может быть, в знак протеста против всего этого безобразия, из «Строгановки» уйдет знаменитый искусствовед, культуролог, историк и теоретик искусства Михаил Владимирович Алпатов, который там работал совместителем. Это, как я недавно выяснил, на самом деле произошло. И, если к моей судьбе ещё в студенческие годы приложил руку сам великий М. В. Алпатов, чьей, изданной в 1948-1955 годах, трёхтомной «Всеобщей историей искусств» я зачитывался ещё в Суриковской школе, то я, пожалуй, могу одним этим гордиться всю оставшуюся жизнь! Кстати, я прочитал сравнительно недавно, к сожалению, что М. А. Алпатов внёс самобытный вклад в теорию т. н. «структурного анализа» искусства, или «структурного метода». Его известнейшим представителем был Ганс Зедльмайр. Этот «структурный метод», правда, не следует путать с собственно структурализмом и с семиотическим подходом к искусству и культуре, привлёкшими моё внимание в 1970-х годах, побудившими меня читать произведения Ю. М. Лотмана и других его представителей, познакомиться с самим Ю. М. Лотманом и вызывающими у меня глубокий интерес до сих пор. Я полагаю, что и в своих исследованиях мне удаётся применять эти методы и подходы.
Вы уже несколько раз в нескольких контекстах упомянули работы Ю. М. Лотмана, не помните, кто первым обратил Ваше внимание на них?
Стоит отметить, что именно И. А. Масеев был первым, кто в начале 1970-х годов привлёк моё внимание к семиотике и к творчеству Ю. М. Лотмана. Он буквально заставил меня купить его книгу «Анализ поэтического текста»[4], когда мы с ним случайно встретились в Доме книги на Новом Арбате (тогда — Калининском проспекте). Я сначала не мог понять, зачем мне, человеку, интересующемуся архитектурой и дизайном, читать про анализ поэтического текста (о существовании универсальных законов построения художественных текстов я тогда ещё не задумывался). «Ну, купи» — наседал И. А. Масеев — «Тебе что, денег жалко?» И потом, когда я купил и прочитал эту книгу, а потом и другие произведения Ю. М. Лотмана, я был очень благодарен И. А. Масееву за то, что он помог мне выйти на ту стезю, по которой, отчасти, я иду и до сих пор. Стоит, кстати, отметить, что после этой «истории» практически все мои сторонники среди преподавателей ушли. Институт стал вполне (и надолго) «захаровским».
Пропуская промежуточные подробности, перейду к самому главному для изложения этой истории. Стало ясно, что выиграет в этом конфликте тот, кто «подбросит» его выше. А тот, кто опоздает, будет потом доказывать, что он «не верблюд». А Г. А. Захаров уже связался с райкомом КПСС. Сочувствовавшие мне преподаватели (кажется, это была А. Б. Матвеева) дали мне телефон студенческого отдела ЦК ВЛКСМ. Я позвонил туда. Трубку сняла секретарша. Я сказал, что хочу попасть на приём к заведующему студенческим отделом. Первый вопрос: «Вас что, выгоняют?». Я ответил, что если и не буквально так, то что-то в этом роде. Она мне назначила день и час, и по комсомольскому билету я прошёл на приём к заведующему студенческим отделом, фамилию которого я не помню. Помню только, что он был уже далеко не комсомольского возраста. Когда я вошёл к нему в кабинет, у него уже сидел молодой человек атлетического телосложения в сером костюме. Хозяин кабинета спросил меня: «У вас конфиденциальный разговор?». Я ответил: «Мне всё равно». Молодой человек в сером костюме остался сидеть. Я сказал, что я написал реферат по истории искусства, который был рекомендован к публикации в Учёных записках МВХПУ, но он не понравился новому ректору, который не только не хочет его публиковать, но и обвиняет меня в том, что мой реферат содержит «идеологические извращения». И теперь, сказал я, из-за моего реферата преследуют всех преподавателей, которые положительно его оценивают.
Я сказал, что, по моему глубокому убеждению, ни идеологических, ни каких-либо иных «извращений» в моём реферате нет, и что обвинения Г. А. Захарова для меня, как для комсомольца, глубоко оскорбительны. Решив идти на максимальное обострение ситуации, я сказал, что сейчас я уже и сам не пойму, какой характер носит этот конфликт: научный, политический или уголовный. У парня в сером костюме отвалилась челюсть. Я сказал, что принёс свой реферат и попросил взять его на экспертизу и дать заключение о его идеологической направленности. Заведующий, в некотором замешательстве, сказал, что вряд ли они могут дать заключение такого рода о моём реферате. Но потом он вспомнил: «Вот скоро придёт наш инструктор Володя Абуладзе, он у нас курирует творческие вузы. Поговорите с ним. Может быть, он займётся вашим вопросом». Я стал ждать, понимая: «Или пан, или пропал», и опасаясь встретиться с бездушным функционером, которому будет на меня наплевать.
Когда, наконец, этот Володя (отчества его я так никогда и не узнал) Абуладзе пришёл, у меня на душе отлегло. Это был нормальный человек вполне интеллигентного, вида. Он, кстати, тоже был уже не комсомольского, возраста, но моложе своего шефа. Он сразу заговорил с кем-то о том, что только что был в ГИТИСе на дипломном спектакле, что ребята и девчата так хорошо играли, что даже преподаватели этого не ожидали. В общем, это был не просто комсомольский функционер, каких там и тогда и, тем более, потом, конечно, было большинство. Он согласился взять мой реферат на экспертизу и потом принял благоприятное для меня решение по нему, согласованное, как я узнал позже, лично с тогдашним первым секретарём ЦК ВЛКСМ и членом ЦК КПСС С. П. Павловым. Забавно, что этот конфликт, как у нас это часто бывает, начавшийся как идеологический, приобрёл некоторые черты конфликта межнационального. Все мои противники были русскими, а среди моих сторонников (помимо меня самого) были: еврей И. А. Масеев, армянин Г. Л. Епископосов и грузин В. Абуладзе. Так что на моей стороне был, можно сказать, почти «весь многонациональный советский народ».
И в этой связи я и хочу вспомнить первое, если угодно, «практическое» соприкосновение с творчеством Селима Омаровича Хан-Магомедова. Когда я давал Володе Абуладзе мой реферат, я сказал ему, что у нас наиболее авторитетным специалистом по архитектуре и дизайну 20-х годов является Селим Омарович Хан-Магомедов и что он может с ним проконсультироваться. Но Володя Абуладзе не зря работал в аппарате ЦК ВЛКСМ. Он почувствовал, что удельный вес инородцев среди моих сторонников (включая его самого) и так «зашкаливает», и сказал, что он и без этого моего «Шаха» разберётся. И потом, когда я, не вполне понимая специфику межнациональных отношений в «стране всеобщего братства народов», снова предлагал ему, всё-таки, проконсультироваться с С. О. Хан-Магомедовым, он не раз называл Селима Омаровича вместо Хана «Шахом». Я думаю, что он делал это нарочно. Чувство юмора у него было развито неплохо. Гораздо позже, когда я увидел фильмы Тенгиза Абуладзе, я не раз думал, что он мог быть родственником знаменитого кинорежиссёра. Но поднять против Г. А. Захарова весь Кавказ мне тогда не удалось. Вслед за мной в ЦК ВЛКСМ потянулись и другие преподаватели из «Строгановки». Однажды я там застал и Г. Л. Епископосова. Он говорил этим ребятам: «Надо действовать. В какое время мы живём?». Я думаю, что после ввода наших танков в Чехословакию он бы этих слов уже не сказал. Его могли бы неправильно понять.
И вот, когда Г. А. Захаров готовился собрать уже третий педсовет для того, чтобы осудить, наконец, большинством голосов мой реферат (а раньше ему это сделать не удавалось: голоса дважды разделялись пополам), ему позвонил Володя Абуладзе и попросился на приём. Они, как говорил мне потом по телефону Володя Абуладзе, проговорили ТРИ ЧАСА. Как я потом реконструировал эту беседу по рассказам преподавателей (со мной Володя Абуладзе считал делиться подробностями непедагогичным), в ходе беседы Володя предложил Г. А. Захарову заглянуть в мой реферат, чтобы уточнить какое-то место. «У меня нет реферата», ответил Г. А. Захаров. «А где он?» спросил Володя. «Он в райкоме КПСС» ответил Г. А. Захаров. «А как он туда попал?» спросил Володя. И тут Г. А. Захаров понял, что переборщил и, что называется, «выпустил пар»[5]. Это, кстати, было интересно ещё и потому, что наглядно показало: ЦК ВЛКСМ «весил», всё-таки, больше, чем райком КПСС. Тут было бы интересно сопоставить мои наблюдения с содержанием известной книги Симона Гдальевича Кордонского «Рынки власти»[6], в которой приводились даже таблицы «весовых соответствий» разных структур и уровней отечественной власти в советский и постсоветский период.
А спустя несколько месяцев наши танки вошли в Чехословакию, после чего сложилась совсем другая ситуация и в идеологии, и во многом другом. Надо честно признаться и в том, что я тогда тоже далеко не сразу понял подлинный зловещий смысл этого события и его неизбежные роковые последствия. Уж слишком основательно у меня (как, впрочем, и у многих) были «промыты мозги» нагнетавшейся в наших СМИ истерией в связи с «угрозой завоеваниям социализма». Для осознания всего этого мне понадобились годы.[7] Я, как и многие, воспринимал нашу политико-идеологическую реальность, если так можно выразиться, фрагментарно: что-то видел более, или менее, ясно, а чего-то другого (вроде бы рядом находившегося) как бы и не видел вовсе, или видел в каком-то тумане. Возможно, одной из причин этого моего тогдашнего идейного конформизма было и то, что моя мама несколько десятилетий работала в «закрытой» системе, в которой такой конформизм был нормой.
Надо сказать, что мой относительный успех в борьбе с Захаровым путём обращения в ЦК ВЛКСМ внушил мне на довольно долгое время недостаточно критическое отношение ко всей нашей системе и к возможности чего-нибудь добиться в её рамках и официальным путём. Но, возвращаясь к моей личной судьбе, на моё счастье, мой тогдашний «вопрос» был уже решён благополучно для меня, а в таких структурах, как ЦК ВЛКСМ к одному вопросу, как правило, дважды не возвращались. Но кто сейчас в МАрхИ знает о том, что тогда я как Александр Матросов своим телом заслонил и МАрхИ, и, в каком-то смысле, всю советскую архитектуру от «второго пришествия» Г. А. Захарова? И кому это сейчас там интересно?
В конечном счёте, уже после того, как мой «вопрос» был решён в ЦК ВЛКСМ в мою пользу и вышвырнуть меня из «Строгановки» с «волчьим билетом» Г. А. Захарову не удалось, я решил уже сам познакомиться с Селимом Омаровичем Хан-Магомедовым, которого действительно считал самым авторитетным специалистом в изучении русского архитектурного авангарда 20-х годов. Мне было интересно его мнение о моём реферате. Я познакомился с ним и дал ему прочитать, по-моему, не сам реферат (читать большой текст он, как мне помнится, не захотел, во всяком случае на нём его пометок нет), а текст доклада в МВХПУ и в МАрхИ, на котором он оставил свои пометки. Он сразу, прочитав название реферата, сказал, что сопоставление через тире двух таких дат, как 1917 и 1937 годы, вообще-то, «бестактно». Его пометки на тексте моего доклада можно прочитать. Главный вывод в конце: «Есть мысли, а в общем схема, что пугает в начинающем исследователе». Каким же «безбашенным» я тогда был, если своим радикализмом «напугал» даже Селима Омаровича? Он мне тогда сказал, что Г. А. Захаров — один из самых талантливых «украшателей» (тут я с таким специалистом, как он, спорить не мог), и что именно 1937 год не был в архитектуре особенно важным. По его словам, те процессы, о которых я писал в своём реферате, начались раньше его и продолжались позже. Он ещё сказал мне, что он не любит, когда автору всё ясно, и что с годами человек всё чаще начинает употреблять слова: «по-видимому», что, как я уже тогда начал понимать и теперь ещё лучше понимаю, совершенно верно.
Впрочем, сегодня я, в своё оправдание, могу процитировать (приблизительно и по памяти) слова Г. К. Честертона о том, что, если человек увлечённый может неправильно осветить какую-либо проблему, расставить не те акценты, то человек холодный и равнодушный может НЕ ЗАМЕТИТЬ и САМОЙ ПРОБЛЕМЫ! Кстати, я довольно долго не знал, что Селим Омарович был старшим братом Мариэтты Омаровны Чудаковой, с которой я впервые лично познакомился в 1982 году на одном из семинаров Ю. А. Левады.
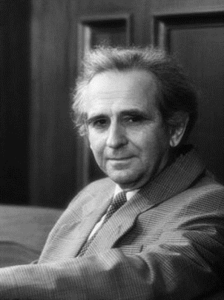
Второй раз мы соприкоснулись с Селимом Омаровичем в 1976 году. Это было после того, как в Институте теории и истории архитектуры обсуждался сборник «Архитектура и проблемы среды» с моей первой опубликованной статьёй «О простоте и индивидуализации облика массовой жилой застройки (информационно-семиотический аспект)», где у меня был, как сказал мне редактор сборника А. В. Рябушин, «сплошной Лотман». Я тогда был сильно увлечён семиотикой вообще и Ю. М. Лотманом в частности. В этой статье я писал о том, что сегодня простота архитектуры 20-х годов, поставленная «на поток» в ходе массового жилищного строительства, уже приводит к однообразию и информационному голоду.
Я не был на обсуждении этого сборника в ЦНИИТИА, но говорил с Селимом Омаровичем после него. Он мне сказал, что сейчас многие молодые люди (он имел в виду и другого автора этого сборника Владимира Зиновьевича Паперного)[8], увлекаясь новыми методами и подходами, объективно невольно смыкаются с консерваторами-академистами в критике авангардной архитектуры 20-х годов. Его тогда это смущало. Теперь, как я тогда его понял, я в его глазах, объективно стал смещаться уже на правый, консервативно-академический, фланг.

В третий раз наши пути с Селимом Омаровичем пересеклись в 1980-х годах. Он тогда работал во ВНИИТЭ, и я посещал его семинары в филиале ВНИИТЭ в Хилковом переулке. Их так и называли: «хановские семинары», и они были очень популярны среди самых разных специалистов: архитекторов, дизайнеров, искусствоведов, гуманитариев, социологов, психологов и т. д. Там выступали в разное время А. В. Иконников, И. Г. Лежава, А. В. Боков, Г. Л. Демосфенова, В. М. Розин, И. А. Добрицына, Г. Л. Лебедева, Л. В. Переверзев, Г. С. Раппапорт, О. И. Генисаретский, А. Б. Гофман, А. Г. Левинсон, А. Г. Вишневский, Л. А. Гордон, И. В. Бестужев-Лада, Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова, М. И. Бобнева, Н. М. Римашевская, В. Л. Райков, В. Л. Глазычев, В. И. Переведенцев, А. С. Ципко, Г. С. Померанц, и многие другие известные люди. Как я сравнительно недавно узнал от своего одноклассника по МСХШ и однокурсника по «Строгановке»» уже упоминавшегося выше Франциско Инфанте-Арана, он тоже там дважды выступал. Посещение этих семинаров многим давало представление о том, что происходит в смежных дисциплинах. Жаль, что этот, процветавший до перестройки, «жанр» уже, практически, никто не продолжает сейчас.
Я выступал на этих семинарах дважды и именно там 10 апреля 1986 года я «застолбил» в качестве названия основанного мной нового научного направления термин «аксиологическая география» или «аксиогеография». Несколько распечаток планов работы этих семинаров у меня сохранилось, и я передал их ксерокопии в музей Московской архитектурной школы Ларисе Ивановне Ивановой-Веэн. Кстати, именно Селим Омарович в ходе обсуждения моего доклада подсказал мне не раз повторявшиеся в моих публикациях слова о том, что на юго-западе Москвы расположен самый дорогой (после ныне уже не существующего Центрального) Черёмушкинский рынок, который является таковым ещё и потому, что рыночные торговцы давно заметили: «интеллигенция не торгуется». В моей статье в «Известиях» «География престижа: диалектика неравенства. Расслоение столицы по классовому признаку началось ещё в СССР. Сегодня этот процесс идёт быстрее», опубликованной 6 мая 2003 года, её редактор Виктория Леонидовна Волошина даже вынесла эти слова в заголовок одной из главок. Кроме того, комментируя мои рассуждения о визуальной и социальной привлекательности юго-западного сектора Москвы и о непривлекательности её юго-востока, он говорил, что, въезжая в Москву на своей машине, он старается ехать не по Варшавскому шоссе, хотя это и ближе, а по Ленинскому проспекту, потому что по «Варшавке» ехать неприятно (по сторонам всё очень некрасиво), а по Ленинскому проспекту ехать гораздо приятнее (там застройка более привлекательная).
Вообще, когда я выслушивал после своих выступлений суждения о своей работе, то собирал всё, что могло как-то дополнить, оживить и «расцветить» живыми подробностями моё несколько суховатое изложение. Так, например, слова о том, что западная ось развития центра Москвы: «Кутузовский проспект — Фили — Кунцево — Крылатское» именуется в московском городском фольклоре «филейной частью Москвы» были мне подсказаны главой знаменитой Сенежской студии, одним из отцов-основателей журнала «Декоративное искусство» и одним из самых наших главных дизайнеров (и организаторов процесса становления отечественного дизайна) Евгением Абрамовичем Розенблюмом. Я у него тоже выступал. В одном из найденных мной в интернете текстов он охарактеризован как «самый неординарный музейный дизайнер-профессор Международной академии архитектуры» и лауреат Государственной премии РФ). Он именно из МАрхИ уходил на фронт. О чём (и вообще о нём самом), кстати, в самом МАрхИ, как я убедился, почти никто уже не помнит.

И уже сравнительно недавно я узнал от Алексея Алексеевича Клименко о том, что ещё в 1960-х годах С. О. Хан-Магомедов сделал открытие, о котором он молчал лет двадцать. Он обнаружил, что автором проекта Мавзолея В. И. Ленина был вовсе не Алексей Викторович Щусев, а, как я первоначально из телефонного разговора неправильно понял, какой-то французский еврей. А. В. Щусев в то время вёл по нескольку проектов и, построив до революции около десятка церквей, не имел особых причин симпатизировать В. И. Ленину. Но Сталину уже тогда то, что автором победившего на конкурсе проекта оказался еврей, совсем не понравилось. Он распорядился, чтобы фамилию подлинного победителя убрали и заменили фамилией А. В. Щусева. И, по словам А. А. Клименко, те, кому это было поручено, бритвочками выскабливали фамилию подлинного автора и вписывали фамилию А. В. Щусева. А С. О. Хан-Магомедову пришлось о своём открытии помалкивать лет двадцать, потому, что, если бы он что-то «вякнул», то его бы исключили из КПСС и выгнали с работы в Центральном НИИ теории и истории архитектуры (ЦНИИТИА), где он руководил одним из подразделений. И уже позже наш известный «архитектуровед» Григорий Исаакович Ревзин мне разъяснил, что я понял А. А. Клименко неправильно. Как он мне сообщил, автором Мавзолея был француз не по подданству, а по фамилии. Это был сотрудник мастерской А. В. Щусева Исидор Аронович Француз, который, по словам Г. И. Ревзина, ещё в 1991 году приходил в ЦНИИТИА жаловаться на свою судьбу.
Прежде, чем распроститься со «строгановской» темой, хочу ещё вспомнить о преподававшем там строительную физику Генрихе Маврикиевиче Людвиге, на семинары которого по герменевтике символов я пару раз ходил ещё до начала «истории» с моим рефератом. Интересный и необычный был человек. Он и высокие посты занимал (в конце 1930-х годов был, например, ректором МАрхИ), и (почти сразу после этого) довольно долго сидел. О нём немало можно прочитать в интернете[9]. Он был архитектором, инженером-изобретателем, теоретиком русского авангарда 20-х годов, исследователем древних языков и т. д. Некоторые даже сравнивали его с Леонардо да Винчи.

Он кое-что рассказывал нам о своём прошлом, о работе в Турции во времена Ататюрка, о ссылке в Казахстан, о дружбе с великим авангардистом Константином Степановичем Мельниковым, творчеством которого я тогда интересовался, и с другими былыми знаменитостями, и ещё о «разных разностях». Но его подлинного масштаба я тогда не представлял. Кстати, о нём, в своё время, писал и С. О. Хан-Магомедов.

Позже, уже окончив «Строгановку», я, по приглашению, кажется, А. Б. Матвеевой, бывал раза три в Пушкинском музее на организованных И. Е. Даниловой семинарах, на которых выступал, в частности, будущий известный автор «Категорий средневековой культуры»[10] (и многого другого), главный, пожалуй, популяризатор у нас французской школы «Анналов» и член «Тартуско-московской семиотической школы» Арон Яковлевич Гуревич, читавший её, видимо, первую редакцию. Кажется, примерно в те же годы я с большим интересом читал его прекрасно написанную научно-популярную книжку «Походы викингов»[11]. Под воздействием этого чтения началось, со временем, и моё многолетнее увлечение исландскими сагами как особой, самобытной литературой «абсолютного реализма».

Выступала там и не менее известная переводчица совсем ещё не известного мне тогда Гилберта Кийта Честертона и многих других «неправильных» иностранных авторов Наталья Леонидовна Трауберг (дочь известного кинорежиссёра и сценариста Леонида Захаровича Трауберга), анализировавшая поэтику его произведений. Позже (после очень долгого перерыва) у нас стали публиковать некоторые детективние рассказы Г. К. Честертона.

Но, как я узнал сравнительно недавно, в этих переводах часто смягчался откровенный антисемитизм Честертона. Как отмечал один из критиков, у многих злодеев из его детективов еврейские фамилии и крючковатые носы. Когда в 2013 году впервые было объявлено о решении Дойла создать отчет, предназначенный для обоснования канонизации Честертона в качестве католического святого, это вызвало гнев некоторых британских евреев. В яростной атаке на Честертона, ведущий еврейский историк Джеффри Олдерман, утверждал: «Я никогда не перестаю удивляться тому, до чего доходят некоторые, чтобы оправдать или принизить явные выражения антисемитизма, сформулированные общественными деятелями, настоящими или прошлыми». Олдерман рассказал о том, как оппозиция Честертона капитализму привела его к защите изгнания Эдуардом I евреев из Англии в 1290 году. В своей «Краткой истории Англии» Честертон описал тех, кто был изгнан из страны, как «капиталистов своего времени» и похвалил монарха как «нежного отца своего народа». Олдерман также отметил нападки Честертона на симпатию британской прессы к Дрейфусу, с критикой «язвительного и иррационального единодушия английской прессы». Через пять лет после того, как Дрейфус был реабилитирован, писатель продолжал ссылаться на евреев, которые были «изменниками во Франции и тиранами в Англии».
В своей книге «Евреи Британии 1656-2000» историк Тодд Эдельман также включил Честертона в «поток грубого антисемитизма», который обрушился на ведущих политиков во время скандала Маркони 1912 года. Некоторые из членов либерального кабинета, которые были обвинены в ненадлежащем использовании информации о предстоящих правительственных контрактах, были евреями. «Самые опасные атаки в деле Маркони, — пишет Эдельман, — были выпущены Честертоном, его братом Сесилом, а также писателем и политиком Хилэром Беллоком. Их «враждебность к евреям» была связана с их оппозицией к либерализму, их отсталыми взглядами на католицизм, и их ностальгией по средневековой католической Европе, которую они представляли себе упорядоченной, гармоничной и однородной».
Честертон неоднократно выдвигал идею о том, что британские евреи не верны своей стране. В конце Первой мировой войны он написал лорду-главному судье Англии Руфусу Айзексу (в то время Виконту Редингу), предложив не участвовать в мирных переговорах с Германией. «Есть ли человек, который сомневается, что вы будете сочувствовать еврейскому Интернационалу?», — спрашивал Честертон. Три года спустя книга Честертона «Новый Иерусалим», в которой он выступал за то, чтобы евреям было разрешено занимать высокие посты, но они должны были носить восточную одежду. «Дело в том, что мы должны знать, где мы находимся; и он будет знать, где они есть, когда находятся на чужбине», — писал он. В интервью «Telegraph» Удрис признал споры вокруг Честертона и сказал, что представит мнения тех, кто «категорически против» дальнейшего продолжения процесса. Тем не менее, каноник сказал, что он не верит, что у Честертона была «расистская кость в его теле». Против канонизации Честертона также выступили некоторые заметные католические голоса в Великобритании. «Стремление католической церкви объявить кого-то святым, говорит многое о Церкви, а также о заинтересованном лице», — написала на этой неделе журналист Мелани МакДонах. «И, если у епископа Нортгемптонского есть какое-то понимание, он объяснит вопрос о Г. К. прямо здесь. Потому что Честертон, несмотря на все его достоинства, был антисемитом». Мак Донах ранее утверждала, что превращение Честертона в святого «просто не соответствует духу современного католицизма, который рассматривает иудаизм, как сказал Ватиканский собор, как старшего брата католической церкви».
Об антисемитизме Честертона (и о вполне «толерантном» к нему отношении в довоенной Британии) вполне определённо писал в 1945 году строго запрещённый у нас в советские времена Джордж Оруэлл: «Бесконечные тирады Честертона против евреев, которые он вставлял в свои эссе и рассказы к месту и не к месту, ни разу не причинили ему неприятностей — напротив, Честертон был одной из самых уважаемых фигур на английской литературной сцене. Всякий, кто стал бы писать в таком духе сейчас, вызвал бы бурю негодования или, что более вероятно, не смог бы печататься»[12]. Но тогда, в 1945 году, Оруэлл вряд ли предвидел, что вскоре (на фоне войны Израиля за независимость), в которой Британия была целиком и полностью на стороне стремившихся уничтожить Израиль арабов, по многим городам Британии прокатилась волна антиеврейских погромов (последниих погромов в Западной Европе после Второй мировой войны!). И уж, конечно, — он не мог предвидеть того, что сейчас в британских школах будут удалять из учебников упоминания о Холокосте, чтобы «не оскорблять религиозных (или ещё каких-нибудь?) чувств» арабов, которых в этих школах неизмеримо больше, чем евреев!
Кстати, возвращаясь к Н. Л. Трауберг, я уже сравнительно недавно узнал о том, что она была хорошо знакома с другом Иосифа Бродского и учеником Ю. М. Лотмана известным литовским поэтом, филологом и правозащитником Томасом Венцловой (с которым я познакомился в июне 2011 года в Таллинне на Третьих Лотмановских чтениях) и его окружением. Сейчас Томас Венцлова преподаёт русскую филологию в Йельском университете в США. Считается одним из главных знатоков творчества Иосифа Бродского.

Кроме того, как я узнал сравнительно недавно от бывшего заместителя директора по науке НИИ искусствознания Николая Андреевича Хренова, он через жену находится в родстве с Н. Л. Трауберг и двумя кинорежиссёрами из этого рода. До чего же, всё-таки, тесен мир и тонок слой.

Выступал там и писатель, искусствовед, театральный педагог и краевед Борис Ионович («Боб») Бродский с докладом об Эль Лисицком, о котором я писал в своём многострадальном реферате. Позже он, насколько я знаю, выступал на одном из семинаров Ю. А. Левады.

На семинарах, организовывавшихся И. Е. Даниловой в ГМИИ было очень интересно, хотя и не всё мне тогда было понятно (это не значит, конечно, что я теперь так уж хорошо всё понимаю). Жаль, что потом обстоятельства не позволили мне ходить на эти семинары ещё.
Довольно интересно Вы входили в социологию. И вот Строгановское училище закончено, что дальше?
Ещё во время учёбы в «Строгановке» у меня нарастало чувство недовольства не вполне добровольно выбранной мной в своё время профессией художника-оформителя. И мне не хотелось больше работать художником-оформителем в такой закрытой «фирме», как Институт биофизики, с его пропускной системой и с довольно удушливой психологической обстановкой. Мечты о работе в анимации оказались несбыточными. Для этого надо было получать второе высшее образование, т. е. снова несколько лет учиться при Союзмультфильме. Вряд ли бы я это осилил. И довольно сильная психологическая травма, полученная в ходе изнурительной «битвы» с Г. А. Захаровым, тоже требовала какого-то изменения жизненной обстановки. Достаточно сказать, что после окончания, я довольно долго избегал появляться в «Строгановке». «Давили» тяжёлые воспоминания. Тем более, что сама «Строгановка» сильно деградировала и общаться мне там стало, практически, не с кем. Былые мои «союзники» среди преподавателей оттуда ушли. Кстати, года через два мой спаситель Володя Абуладзе, не выдержав, видимо, стремительно ухудшавшейся обстановки в ЦК ВЛКСМ, вернулся в Тбилиси. Но мне хотелось попробовать себя в какой-нибудь деятельности, хоть как-то связанной с наукой. При этом я понимал, что стать «чистым» искусствоведом мне не удастся. Реальных связей в этой среде (а они в этой среде были очень важны) у меня не было. Профессиональных знаний тоже явно не хватало (это я почувствовал ещё в «Строгановке» при общении с преподавателями). Да и жить, как я понимал, будет не на что. Надо было искать что-нибудь более практически-прикладное.
(Продолжение следует)
Примечания:
[1] У меня, кажется, до сих пор есть его посмертно вышедшая книжка из «жёлтой серии» (официально она называлась «Дороги к прекрасному») «По реке Кокшеньге», М., Искусство, 1973.
[2] Кстати, в 2011 или в 2012 году я предложил живому классику и легенде отечественной географии Борису Борисовичу Родоману принять участие в каком-то весьма и весьма умеренно оппозиционном «Круглом столе» в Институте социологии РАН. Он мне тогда ответил, что он — «не борец, а писатель». И я, как мне кажется, тогда вспомнил А. К. Чекалова. Что тут поделаешь? Нельзя, наверное, требовать ото всех «писателей», чтобы они были ещё и «борцами»! Но, и жаль, всё-таки! И что ждёт нашу несчастную страну, где и сейчас среди людей творческих профессий ещё много «писателей», но так мало «борцов»? Когда я вскоре написал об этом обмене мнениями нашему известному социологу Никите Евгеньевичу Покровскому (не называя, кстати, фамилии Б. Б. Родомана), то он справедливо написал мне, что «учёный — плоть от плоти своего народа, при всей своей учёности». Увы!
[3] Не могу удержаться от соблазна ещё раз для сравнения воспроизвести относившуюся ещё к 1934 году характеристику эстетики сталинизма слова будущего действительного члена Академии Художеств СССР М. А. Лившица: «Болезненное тяготение к тем архитектурным стилям, для которых заметны избыток и перезрелость форм, символика внешнего величия, стремление к грандиозному и подавляющему».
[4] Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1972.
[5] Это, кстати, был первый (но далеко не последний) в моей жизни случай, когда меня, помимо моей воли, «вынесло» на конфликт с первым лицом в той административной пирамиде, внутри которой я сам находился. Можно, в этой связи, вспомнить слова О. Генри, когда в одном из своих рассказов устами одного из своих героев написал, что главное — не дороги, которые мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет нас выбирать эти дороги. Хотя, строго говоря, я эти дороги сам и не выбирал. Меня на них «выносила» некая сила, которая, надо признаться, была заключена во мне самом.
[6] Кордонский С. Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. 2е изд. стер., М., ОГИ, 2006.
[7] Уже гораздо позже, «в новом тысячелетии», я узнал, что «Пражская весна» отвлекла советских вождей от реализации чудовищного замысла уничтожения Израиля ракетно-ядерным ударом с подводной лодки, уже «дежурившей» в Средиземном море неподалёку от израильских берегов в ожидании приказа. И я знаю людей (в том числе и с учёными степенями), которые об этих замыслах не только не знают, но и знать не хотят.
[8] Его статья в сборнике называлась «Москва 1917-1935. К понятию городской среды». Уже позже В. З. Паперный написал интересную книгу «Культура два», которую он написал в качестве диссертации ещё в СССР, где тогда защитить её у него не было никаких шансов, и издал на русском языке сначала в США (в 1985 году), куда он эмигрировал в 1981 году, и только потом у нас (в 1996 году). Кое-что в этой книге, по-моему, (и с поправкой на десятилетний интервал между нашими работами, в ходе которого можно было существенно поумнеть) было созвучно идеям моего многострадального, хотя и очень наивного, реферата.
[9] См., например, «висящий» в интернете интересный текст: «Миры профессора Людвига».
[10] Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., «Искусство», 1972. (Изд. второе, испр. и доп. М., «Искусство», 1984).
[11] Гуревич А. Я. Походы викингов. М., «Наука», 1966.
[12] Оруэлл Д. Антисемитизм в Британии. В сб.: Памяти Каталонии. с. 429.




