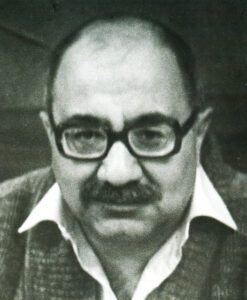![]()
В общем, совсем не случайно, оказавшись в том краю весной 1984-го по совсем другому поводу (в качестве так называемого «сопровождающего» Ленинградского бюро путешествий доставил по небу с невского берега на каспийский сто туристов), я воспылал желанием с обоими братьями непременно встретиться. Однако Рустам был в отъезде. Зато Максуд принял гостя со всем восточным радушием.
«ТАИНСТВЕННОЕ ЗЕРНО ДУХОВНОСТИ!..»
11 мая 1935 года родился писатель, драматург, сценарист Максуд Ибрагимбеков, с которым я встретился почти сорок лет назад.
Лев Сидоровский
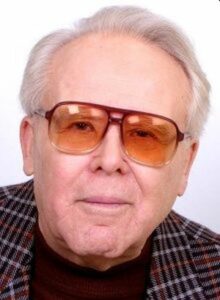 В МОЕЙ старой телефонной книжке есть такая запись:
В МОЕЙ старой телефонной книжке есть такая запись:
«Братья Ибрагимбековы. Максуд Мамедович: 370000, Баку, Гаджибекова, 27, кв. 36. Тел. 98-48-95. Рустам Мамедович: 370006, Баку, Лермонтова, 3, кв. 54. Тел. 92-63-13».
Да, жили знаменитые братья в Баку, а их книги читала вся страна. И смотрели люди спектакли, поставленные по их пьесам, и радовались фильмам, снятым по их сценариям.
Ну, например, у старшего, Максуда, в самом тогда авторитетном столичном журнале «Новый мир» была опубликована повесть «И не было лучше брата», встреченная с горячим интересом. Впрочем, огромной популярностью пользовались и другие его творения: «За всё хорошее — смерть», «Кто поедет в Трускавец», «Пусть он останется с нами», «Прилетела сова», «История с благополучным концом», «Концерт для баритона с оркестром»… А ещё — пьесы: «Мезозойская история», «Мужчина для молодой женщины», «Дай мне время!» и прочие шли на сценах свыше пятидесяти театров — от столичного Малого до ленинградского ТЮЗа… А по его сценариям на разных студиях страны было снято двенадцать художественных и двадцать документальных фильмов.
Что же касается младшего, Рустама, то его пятнадцать пьес (назову лишь «Женщину за закрытой дверью», «Похороны в Калифорнии», «Дом на песке», «Похожий на льва») завоевали любовь театралов, пожалуй, на всём белом свете. А многие фильмы по его сценариям (их более сорока) стали нам очень любимы: ну, например, «Белое солнце пустыни» или «Храни меня, мой талисман»…
В общем, совсем не случайно, оказавшись в том краю весной 1984-го по совсем другому поводу (в качестве так называемого «сопровождающего» Ленинградского бюро путешествий доставил по небу с невского берега на каспийский сто туристов), я воспылал желанием с обоими братьями непременно встретиться. Однако Рустам был в отъезде. Зато Максуд принял гостя со всем восточным радушием.
***
РАСПАХНУВ дверь, крепко скроенный усатый хозяин квартиры полуобнял меня за плечи и на вопрос, надо ли снимать обувь, расхохотался: «Слушай, я ведь не в баню приглашаю!» Ну а в месте, предназначенном для беседы, я прямо-таки застыл, поражённый, во-первых, старинным оружием на ковре во всю стену и, во-вторых, — шикарно сервированным столом. Оказывается, в ожидании гостя был сделан телефонный звонок в соседний ресторан — и вот теперь передо мной красовались и дюшбара (как пояснил Ибрагимбеков, «наваристый бульон с маленькими пельмешками, обильно сдобренные специями и зеленью»), и кутабы («прелесть из тонкого, нежного теста в виде полумесяца»), и аджапсандал («рагу из баклажанов, томатов, сладкого перца, чеснока и лука»). А к чаю была ещё припасена, как добавил творец всего этого изобилия, «азербайджанская сладость номер один — пахлава!» Да-а-а, прежде, за всю свою журналистскую практику, с подобным хлебосольством встречаться мне не доводилось. В общем, сражённый наповал восточным гостеприимством, был вынужден отведать всю эту вкусноту, и лишь потом «принимающая сторона» милостиво позволила журналисту включить свой репортёрский магнитофон.
***
ПРЕДВАРЯЯ разговор, я — «как представитель питерской именно молодёжной газеты» — выразил писателю своё восхищение: мол, как удивительно удаются ему истории о подростках, которые получаются невероятно трогательными и правдивыми!
Он улыбнулся:
— Таким началом вы меня растрогали аж до слёз!
Я не унимался:
— Вы говорите с детьми о вещах сложных и неоднозначных без морализаторства и, так сказать, «пропаганды», доверяя их смышлёности, чутью, восприимчивости к правде. А перечитывая совсем недавно сборник ваших повестей, невольно подумал, что главная тема писателя Максуда Ибрагимбекова — это, пожалуй, духовность молодого человека. Согласны, Максуд Мамедович?
Мой визави посерьёзнел:
— Действительно, проблема духовности, а вернее — бездуховности некоторых молодых людей сейчас для меня, пожалуй, первостепенна. Ведь сплошь и рядом можно встретить юношу, который и образован, и хорошо одет, и — благодаря телевидению — прекрасно обо всём осведомлён, в общем, внешне вроде бы налицо все атрибуты культурного человека. Однако, если проанализировать, чего он хочет, если попытаться определить круг его интересов, то (не хочу клеветать на всех) картина порой получается унылая…
Я продолжил:
— И в то же время, Максуд Мамедович, вы постоянно ищете совсем другие характеры. Рассказывая, например, о детях, радуетесь непосредственности юного героя, подвижности молодой души, умению удивиться пустяку, задуматься над ним… Невольно вспоминаю юного Таира из повести «За все хорошее — смерть»: какая в этом вроде бы физически слабом мальчике сила духа, какая самоотверженность!
— Мне очень важно, — отозвался собеседник — чтобы читатель ощутил его интеллигентность (хотя, наверное, кому-то такое слово в отношении ребёнка может показаться странным). Что же определяет эту интеллигентность? Таир молчаливо признаёт свою телесную слабость, терпеливо сносит пренебрежительное отношение сверстников. Спасая голодных друзей от неминуемого отравления, он выбрасывает испорченные рыбные консервы и, когда вслед за этим наступает жестокая, несправедливая расправа, испытывает по отношению к обидчику не ненависть, а недоумение, даже жалость. Вот и получается, что интеллигентность Таира заключена вовсе не в мягкотелости, а в щедро отпущенной способности к пониманию, в терпимости… Нравственная твёрдость этого маленького человека намного выше грубой силы его сверстников — не случайно именно Таир оказался способным вывести ребят из подземелья…
— Да, внешне слабый мальчик, по сути, совершает подвиг. Ваш юный герой лишний раз подтверждает своими поступками справедливость истины о том, что время подвигов отнюдь не миновало. Между тем, многие его сверстники сетуют на то, что родились слишком поздно, что лишь на фронтах Гражданской или Великой Отечественной войн можно было ярко проявить свой характер…
— Думаю, что нынешним молодым повезло: огромное количество событий, которые происходят каждый год, каждый месяц, каждый день, делают нашу эпоху по своему уникальной. Мир бурлит — и, естественно, человек в этот процесс вовлекается…
— Хорошо: эпоха — уникальна, а насколько ей отвечают нынешние молодые? Зачастую некоторые представители другого, старшего, поколения готовы обвинить семнадцатилетних во всех грехах. Допустим, в том, что поют «не те» песни, танцуют «не те» танцы… Кстати, вам, Максуд Мамедович, ведь тоже почти «полтинник», и вы, наверное, тоже скучаете по старым танго?
— Скучаю. Достаю старую пластинку, ставлю на проигрыватель… Но мне также нужны и Градский, и Битлы, и современные группы — в общем, получаю удовольствие и от Бетховена, и от Пендерецкого… Причём если бы даже современные ритмы мне категорически не нравились, никогда бы не путал такие понятия, как духовность, бездуховность и музыкальные вкусы, ибо это вещи разные, параллельные.
— Что же, Максуд Мамедович, вас привлекает в людях, так сказать, в первую очередь?
— Мне нравятся сильные люди, способные быть лидерами. Кстати, лидерство, по моему глубокому убеждению, — свойство, прежде всего, биологическое: человек может быть, что называется, семи пядей во лбу, но если он лишён таланта быть лидером, то не станет им никогда. И, мне думается, очень важно, чтобы духовный уровень лидера всякий раз оказывался достаточно высоким, в противном случае — жди плачевного результата… Вспоминаю историю одного человека. Родился и вырос он в селе. Приехал в Баку, поступил в институт. Учился хорошо. Получив диплом, остался в том же вузе. Со временем защитил диссертацию, возглавил кафедру… Но поскольку его знания, как оказалось, носили фактически характер формальный, поскольку духовно он воспитан не был, то смотрел на кафедру, как на «собственный огород». И однажды попался на взятках… Если уж наш разговор невольно коснулся этой больной темы, добавлю: никто не сможет искоренить взятки в институтах, если люди, которым принадлежит там власть, педагоги, не будут духовно чисты… Таинственное зерно духовности! Мы должны внимательно следить за тем, чтобы духовность становилась неукоснительным свойством человеческой натуры, особенно если речь идёт о тех, кто только ещё вступает в жизнь…
Я вспомнил:
— Вот Джалил-муаллим из повести «И не было лучшего брата», чей непростой характер вы исследовали столь скрупулёзно. Ведь, вроде бы, чистый, порядочный человек, а, между тем, сколько беды приносит окружающим…
— Да, не подлец. Наоборот — абсолютно искрение желает добра всем и при этом начинает всем «стричь уши», потому что ему кажется, что уши должны быть «квадратными». Тоже, кстати, лидер — вот в чём опасность! И самое страшное: у Джалила обязательно появляются единомышленники, даже среди тех. кому он эти самые «уши» постриг.
— Вы знали такого в жизни?
— Увы, и не одного. Эти люди лишены способности сопереживать и понимать. А есть ещё худший вариант: те, кто не хочет понять, — настолько уверены в своей непогрешимости…
— Чувствуется, Максуд Мамедович: за тем, что вы пишете, стоит личная жизнь. Не просто житейский опыт, а какие-то совершенно конкретные ситуации из собственной биографии: конкретные люди, встречи, конфликты… Это ощущение справедливо?
— И да, и нет. Потому что, конечно, личный опыт творческого человека в его «продукции» присутствует обязательно, но — в слишком уж видоизменённом варианте. Я бы сравнил это соотношение с явью и снами. Да, творчество, без сомнения, оперирует теми конкретными знаниями, встречами, конфликтами, которые накопил человек, и, тем не менее, по какому-то складу мышления всё это здорово видоизменяется…
— Наверное, прежде всего вам, как писателю, напоминает о себе военное детство?
— Пожалуй, так. Хотя мне кажется неверным, когда говорят отдельно о детстве, отдельно — о юности, отдельно — о зрелости. Так бывает у стрекоз или лягушек: стадия личинки, стадия головастика… А у человека — всё едино. И уж коли ребёнок получает добро и ласку, то это неминуемо превращается в его капитал и потом, спустя годы, приносит результат. Даром не проходит ничто…
— Вспомните, пожалуйста, когда впервые ощутили тягу к писательскому ремеслу…
— Не помню, когда это почувствовал, но мне кажется, что всё возникло от любви к чтению. Более того, я вообще убеждён: человек, который понимает, какое это громадное счастье — хорошая книга, рано или поздно осознает, какое счастье — самому что-то сделать в этой области, как-то высказаться о жизни. Да, человек, не любивший по-настоящему чтение, писателем быть не может — в этом, как мне кажется, весь секрет.
— Каким же книгам, прочитанным в ту давнюю пору, обязаны вы этой любовью?
— Мне нравились авторы, совершенно не похожие друг на друга: и братья Гримм, и Чуковский, и Дюма, и Диккенс… Эти книги остались любимыми до сих пор. Однако, когда, случается, их перечитываю, зачастую, увы, напоминаю сам себе человека, который, съев вкусный пирог, начинает вдруг выяснять: каким было тесто, какой — начинка… То есть многое идёт уже «от ума», а не от сердца…
— Интересно, как возникает сюжет той или иной повести! Были ли у вас в жизни уже готовые примеры или даже сюжеты?
— Примеры — были, но не сюжеты… Лет десять назад в одной горной северокавказской деревушке я вдруг увидел новенький «мерседес». Причём автомобиль хоть и новый, но собран он был ещё в середине тридцатых годов, на одном из заводов фашистской Германии. Оказывается, машину вместе с разным оружием нашли местные ребятишки в бункере, оставшемся с войны. Так «мерседес» дал толчок для повести «За всё хорошее — смерть». А вообще-то сам не могу понять, как эти сюжеты возникают, да и стараюсь поменьше рассуждать о писательском ремесле — может, потому, что учился не на филфаке, а — совсем наоборот — в политехническом, и мне гораздо легче рассказать вам, как построить дом, нежели — как выстроить сюжет…
— Вы в прошлом — строитель, брат — физик: это что, фамильная черта — резко менять жизненный выбор?
— Мне кажется: если почувствовал внутренний зов, надо ему подчиниться. Иначе жить нельзя.
— Вы старше Рустама на четыре года и, вероятно, были для брата лидером?
— Ну, конечно! (Смеётся). Физически же был сильнее… А вообще-то у нас всё происходило поэтапно: я поступил в технический вуз — он поступил в технический вуз, я был чемпионом по боксу — он был чемпионом по боксу, я занимался греблей на каноэ — он занимался греблей на каноэ, я стал писать — он стал писать, я пошёл в кинематограф — он пошёл в кинематограф, теперь — секретарь Союза кинематографистов Азербайджана…
— По-моему, вместе вы написали совсем немного?
— Да, лишь пьесу «Кто придёт в полночь?» и либретто балета «Тысяча и одна ночь».
— Способны «дарить» друг другу сюжеты?
— Ни я, ни Рустам просто не приняли бы такого подарка.
— Замечали за собой чувство ревности к брату, если у него — успех?
— Какая ревность: я Рустама люблю больше жизни!.. Обязательно посмотрите его новую картину «Перед закрытой дверью» — эта вещь много сильнее, чем «Допрос»…
— Хотелось бы заглянуть в вашу творческую лабораторию. Например, ведёте записные книжки?
— Веду. Заношу туда разные наблюдения, но почему-то, когда начинаю работать, чаще всего этих записей не нахожу. Однако пропаже не огорчаюсь, ибо давно уже убедился в том, что главное в памяти сохраняется и так.
— Ваши тексты очень афористичны.
— По-моему, работа писателя как раз в том и заключается, чтобы «по ходу» написать нечто, претендующее на название афоризма. Или — простую незамысловатую строку, которая кому-то надолго запомнится. Или — придумать сюжет с интересными героями, которых кто-то полюбит или возненавидит. В этом и заключается в конечном итоге труд и счастье писателя…
— Вы «сова» или «жаворонок»?
— Типичнейшая «сова»: лучше всего мне работается с половины третьего ночи…
— Что пишется труднее — повесть, пьеса, сценарий?
— Со сценариями и пьесами, пожалуй, легче. Зато из двенадцати страниц прозы в результате получается одна — такой вот отход…
— Принимаете участие в постановке своих фильмов?
— Очень редко — лишь тогда, когда режиссёр хочет со мной посоветоваться. Сам же соваться с советами после того, как доверил человеку сценарий, считаю неэтичным.
— Какие же из «своих» кинолент принесли наибольшее удовлетворение?
— «В один прекрасный день», «Кто поедет в Трускавец» и «Пусть он останется с нами»…
— Последний из названных фильмов меня прямо-таки пронзил: какое там проникновение в мир маленького героя, какие точность и ненавязчивость акцентов, чуть ироничная интонация, прелесть необязательных деталей и наблюдений! Это — как у Светлова: «Без необходимого я уж как-нибудь проживу, а вот без лишнего…»… А какая из «собственных» театральных постановок вам ближе?
— Лишь две принял сразу и целиком: «Мезозойскую историю» в Малом театре и «За всё хорошее — смерть», отлично осуществлённую в Ленинградском ТЮЗе Зиновием Корогодским… Кстати, в городе на Неве у меня много хороших друзей, особенно — среди кинематографистов: Илья Авербах, Юрий Клепиков, Владимир Григорьев, Фрижетта Гукасян…
— Невольно обратил внимание на вашу коллекцию: шпаги, сабли, эспадроны, пистолеты…
— Не знаю ничего красивее, чем старинное оружие. Впрочем, это увлечение скорее дизайнера, а не коллекционера.
— Знаю, что вы и сами, как мушкетёр, за свои произведения способны драться…
— Да, приходилось… Например, после того, как «Новый мир» опубликовал «И не было лучше брата», в нескольких бакинских газетах известные критики вдруг мгновенно раскрыли «аморальную», а следовательно, и «антисоветскую сущность» вышеупомянутого произведения и его автора. Попутно лягнули «Новый мир». А секретарь ЦК Компартии Азербайджана, некий Кулиев, тут же во все главные центральные издательства и редакции журналов разослал письма с запретом на все мои произведения — в том числе и будущие. В общем, кислород мне перекрыли, денег нет… Пришлось обращаться за помощью к Гейдару Алиеву. В той очень длинной телеграмме я среди прочего сообщил, что секретарь ЦК Кулиев — «человек малокультурный и интеллектуально неразвитый». И вы знаете — помогло!
(Да, дорогой читатель, я слышал про это и другие похождения моего визави — в борьбе «за правду!» Особенно понравилось, как однажды, рассвирепев на ВАПП (это Всесоюзное агентство по авторским правам отбирало у писателей свыше девяноста процентов от каждого валютного гонорара за произведения, изданные за рубежом), Максуд стал демонстративно платить партийные взносы и с… карточных выигрышей. Причём перепуганный парторг Союза писателей эти крамольные взносы — в соответствии с буквой устава партии — был вынужден принимать. Впрочем, сам писатель признался, что делал это исключительно ради увеселения души.
— Сегодня, после нашей беседы, тоже сядете за рукопись?
— Сегодня я отдыхаю, а ещё несколько дней назад эта беседа, вероятнее всего, вряд ли бы состоялась . Вообще последние два года буквально не вылезал из кабинета — и вот теперь написаны роман, две повести и сценарий, который как раз сегодня утверждён на киностудии. Фильм «История с благополучным концом» будет ставить режиссер Юлий Гусман — помните, лет десять назад он возглавлял на всесоюзном телеэкране бакинскую команду КВН?
***
ПОМНЮ ли я Юлия Гусмана? Ещё бы! Причём мне довелось узнать его лично как раз после их тогдашнего триумфа. В августе 1970-го мы с ним оказались вместе в поезде, следующем из Москвы в Будапешт, и я вознамерился взять у знаменитого капитана бакинцев для газеты весёлое интервью. Однако весьма избалованный Юлик за сутки своими капризами меня просто-напросто извёл… Впрочем, дорогой читатель, он меня умудрился донять и теперь, во время этой беседы, поскольку беспрестанно звонил «другу Максуду» с требованием немедленно явиться на какой-то «домашний банкет». И сколько «друг Максуд» ни объяснял, что у него берёт интервью журналист из Ленинграда, Гусман всё равно не унимался. В общем, пришлось нам разговор, увы, сворачивать и тот чёртов «домашний банкет», где тамада Юлик, естественно, оказался главным действующим лицом, вместе посетить…
А потом, уже далеко за полночь, они меня всей шумной компанией до отеля сопровождали. И, уже доведя до дверей, бросались с рыданием ко мне на грудь: мол, расставания не переживут. И вели обратно. Но тут я вспоминал, что в шесть утра должен отправлять своих туристов в дальнюю поездку — и они снова меня «со слезами» провожали. Так повторилось, по-моему, раз пять. Причём во время этих бесконечных «туда-обратно» и Юлик, и Максуд были очаровательны: юмор из обоих прямо-таки бил фонтаном.
***
ВОТ некоторые из известных перлов Максуда.
Однажды в ответ на сообщение председателя Союза писателей, что «выборы прошли прекрасно, в Правление избраны сорок человек», Максуд поинтересовался: «А писатели среди них есть?».
«Умереть проще всего, но ты на это не надейся».
«Оркестр считался хорошим: его часто приглашали играть на похоронах уважаемых людей».
«В каком бы тяжёлом положении ты не оказался, всегда найдутся люди, которые будут тебе завидовать».
«Творчество — удовольствие, за которое почему-то тебе платят вместо того, чтобы брать с тебя».
«Нет, я не утверждаю, что в Баку мне нравится всё. Вчера купил пиво, отнёс на анализ. В лаборатории сказали, что у моей лошади воспаление почечной лоханки».
***
С ТОГО вечера, когда я познакомился с Максудом, минуло тридцать восемь лет. Он много ещё чего сумел придумать, сочинить, сотворить…
Этот великий азербайджанский литератор, который превосходно писал по-русски; этот мудрец, обладавший особым зрением и чувством самоиронии; этот никогда не унывавший эпикуреец; этот председатель Национального комитета мира, депутат парламента Азербайджанской республики, председатель Дворянского собрания, почётный сенатор штата Луизиана (США), президент общества «Азербайджан — Россия», Посол мира, и прочее, и прочее, и прочее, этот вообще очаровательный человек, чьё полное имя — Максуд Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков, увы, 22 марта 2016 года свой земной путь завершил. И упокоился на Первой Аллее Почётного захоронения. Там же рядышком — брат Рустам, которого не стало совсем недавно: в 2022-м, 11 марта.